Беседа с лауреатом Патриаршей литературной премии 2013 года Юрием Михайловичем Лощицем, автором биографической книги о святых равноапостольных братьях Кирилле и Мефодии.
— Юрий Михайлович, позвольте от всей души поздравить вас с присуждением Патриаршей литературной премии 2013 года. Ваша книга о святых солунских братьях написана просто, живо и основательно. Как долго вы ее писали, какой «кровью» она вам далась?
— Благодарю вас за поздравления и теплые слова в адрес моего труда.
Честно говоря, я заинтересовался этой темой очень давно — уже более двадцати пяти лет назад. По крайней мере, в 1988 году в одной из моих книг появился исторический очерк о Кирилле и Мефодии. Потом, в 1990-е, были сценарии для телевизионных фильмов, сделанных по заказу ТК «Культура» или ОРТ. А уже в самом конце ΧΧ века я решился заключить договор с издательством «Молодая гвардия». Сама книга писалась более двенадцати лет. Мучительно долго, — по разным причинам, среди которых и сложность материала, и отдаленность его, и необходимость хоть как-то ознакомиться с тем греческим языком, с которого переводили братья… Все это доставляло много дополнительных хлопот, поэтому все так и затянулось.
— Можно ли сказать, что на данный момент это ваша главная книга?
— По крайней мере, я ее писал дольше и готовился к ней дольше, нежели ко всем трем предыдущим книгам — о Григории Сковороде, Иване Гончарове и Дмитрии Донском, изданным в серии «Жизнь замечательных людей». И сейчас у меня есть желание продолжать. Книга вышла три месяца назад, а я уже делаю для себя новые пометочки, на случай, если она кого заинтересует, и кто-то захочет ее переиздать, поскольку тиражи современные сами видите какие — 5000 экземпляров, и все.
— Юрий Михайлович, помимо церковнославянского языка, богослужения и переводов, от равноапостольных Кирилла и Мефодия остались ещё два сокровища, которые мы, наверное, не очень ценим, — их жития. Не могли бы вы рассказать об этом их наследии?
— Совершенно согласен с тем, что эти жития — подлинное литературное сокровище. И хотя большинство исследователей, — и девятнадцатого века, и двадцатого, и те, что занимаются творчеством Кирилла и Мефодия сегодня, — постоянно к обращались и обращаются к ним, до сих пор эти жития остаются недооцененными. Но ведь нас волнует не только то, как к этим житиям относятся исследователи, — ведь они безусловно заслуживают того, чтобы с ними была знакома широкая читательская аудитория, православная в первую очередь.
Первое из этих житий — Кирилла — начали писать в Риме, где после его кончины еще довольно длительное время оставались и Мефодий, и ученики братьев. А спустя 15 лет после кончины старшего брата, архиепископа Мефодия, его ученики — уже в другом месте — взялись за осуществление второго житийного замысла.
И если говорить о месте, которое занимают эти жития в числе памятников, оставленных нам Кириллом и Мефодием и их учениками, то, конечно, их можно назвать первыми оригинальными литературными произведениями, написанными для славян, — первыми в мире.

Иногда эти два жития называют пространными. Дело в том, что несколько позже возникли еще и так называемые «проложные», — очень сокращенные жития, — входившие в «Прологи», книги для ежедневного чтения. Но мы, говоря о житиях братьев, будем в первую очередь иметь в ввиду пространные, интересные еще и тем, что в них можно проследить личные отношения двух братьев.
Например, когда читаешь житие Константина-Кирилла, то замечаешь: на его страницах Мефодий почти отсутствует. Почему так? Ведь они вместе бывали в разных миссиях, — и в Багдадской, и позже в Хазарской, — но Мефодия там словно бы и нет. Дело в том, что в отношении старшего брата к Кириллу было удивительное и заметное принижение собственной значимости. Мефодий необыкновенно любил брата и почитал как настоящего, первого и главного делателя в труде, ими осуществляемого. А себя ставил в тень. А когда он скончался, то ученики, конечно, поняли, что Мефодий и для них и для всего их общего дела играл громадную роль. И вот, составляя его житие, они отводили ему должное место, уделяли внимание великому вкладу Мефодия в просвещении славян.
Что же касается моей книги «Кирилл и Мефодий», то она была бы просто невозможна, не будь этих двух житий, — без них создать какую-то хотя бы приблизительную канву жизнедеятельности солунских братьев было бы просто невозможно.
Конечно, эти жития ценны еще и тем, что они необыкновенно насыщенны документальным материалом, — и не просто документальным, но и еще выраженным иногда с необычайной художественной силой и яркостью.
В книге мне пришлось раскрывать достоинства и истинность изложенных в житиях событий. Дело в том, что в западно-европейской литературе, посвященной Кириллу и Мефодию, — да и отчасти и у нас в советские времена, — на эти жития смотрели как бы искоса. Находили в них обилие заимствований из более ранних житийных памятников и считали, что мы имеем дело с трафаретами, кочующими из одного жития к другому.
Но, по-моему, все это — наглая ложь, если, конечно, не считать за трафарет, что Кирилл вырос в семье прекрасных и боголюбивых родителей. Действительно, такое встречается во многих житиях, но что же в этом совпадении странного? Это один из законов, на которых держится жизнь человеческая: в хорошей семье должны вырастать, и чаще вырастают благородные дети.
Подобных придирок было множество.
Или взять сюжет, в котором описывается полемика молодого Константина с бывшим патриархом.
— Тем, что отстаивал иконоборчество?
— Да, тот был иконоборцем, и вот в споре с ним молодой Константин защищает принцип иконопочитания, безусловный для православной христианской культуры. В современных толкованиях можно встретить мнение, что в действительности такой беседы не было, а просто Константин в такой конструкции научал себя, как бы тренируя способность к полемическим выступлениям.
Но старший брат, безусловно, участвовал в написании жития, — и как же мы можем не доверять Мефодию? Как мы можем предположить, что он был способен допустить неточности, выдавая одно за другое?! Если бы спора не состоялось, а была какая-то домашняя заготовка к беседе, то, наверное, Мефодий бы не включил бы этот сюжет в житие!
Приходится бороться с остатками гиперкритического отношения к этим житиям, — отношения чисто атеистического, когда эти подлинные и бесценные документы подвергались принижению в угоду господствовавшей доктрине.
Это важная для меня часть работы по комментированию житий. А комментарии у меня присутствует на многих страницах книги, в том числе и к тем моментам жизни братьев, которым не нашли отражения в житиях.
Например, по другим документам нам известно, что у братьев — особенно у младшего — были теплые отношения с патриархом Фотием. Они начались, когда Фотий сам был еще молодым человеком и преподавал в высшем учебном заведении Константинополя, — а Константин Философ у него учился. Потом, в течение всей их жизни, Фотий путеводительствовал братьям.
Но в их житиях мы этого не найдем, потому что внутри тогдашней Византийской Церкви было неоднозначное отношение к Фотию. Были сторонники другого патриарха, Игнатия, на место которого пришел Фотий, но и не только поэтому: отношение к Фотию со стороны латинского духовенства было напряженным и можно сказать, отрицательным: до раскола было еще далеко, но по наиболее принципиальным позициям уже проступили его первые контуры. Фотий отстаивал позиции Восточной Православной Церкви, и в этом смысле он был безусловно прав, и солунские братья в этом его поддерживали.
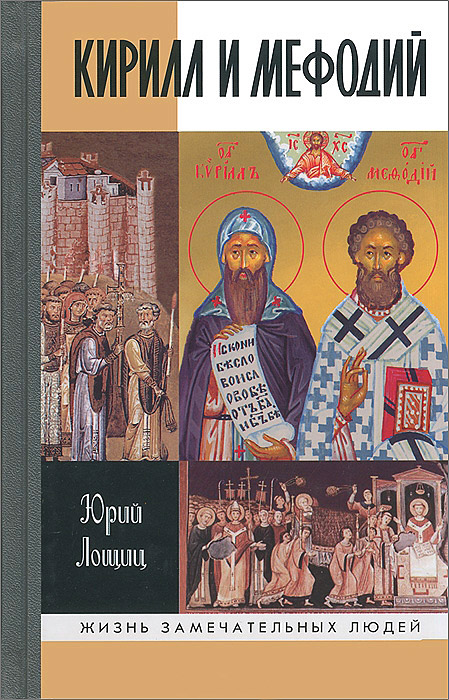
— Вы когда-то говорили, что для нас эти жития должны быть даже ближе, чем для болгар и сербов — и по языку, и по истории, но почему-то так получилось, что у нас к ним более прохладное отношение, нежели в Болгарии.
— Об этом стоит сказать. Есть необходимость сосредоточить внимание исследователей и широкой читательской аудитории на этих двух выдающихся памятниках славянской письменности еще и потому, что они необыкновенно почитались в древнерусской традиции. Известны десятки списков жития Кирилла и многие списки жития Мефодия. Один из самых старших по времени сохранения списков, в Успенском сборнике, хранящемся в отделе рукописей Государственного Исторического музея, относится к XII веку. У нас присутствовала традиция почтительного отношения к этим памятникам, как к первым образцам славянского письма древнерусской письменности.
И если сравнивать с современными болгарами и сербами, то мы обнаружим, что и в хрестоматиях, и в программах ВУЗов, и в исторических трудах эти памятники присутствуют, как самые первые славянские сочинения.
А у нас — нет. В наших литературных хрестоматиях их нет: все начинается с произведений, безусловно выдающихся, таких, как «Слово о законе и благодати» митрополита Илариона или «Повести временных лет», но все-таки это XI-XII век, а жития Кирилла и Мефодия относятся к IX веку — или к самому началу десятого столетия. На Русь эти книги пришли попозже, но они были написаны на языке, который и сегодня гораздо более понятен русскому читателю, нежели болгарину и сербу. Безусловно, это наше достояние.
Я неоднократно говорил об этом на разных конференциях и писал в статьях: нам нужно «удревнить» нашу древнюю литературу на два столетия и отсчитывать ее начало не с XI века, а с IX, — с эпохи Кирилла и Мефодия. Их наследие — национальное достояние восточнославянской культуры, в том числе и нашей, русской, в не меньшей степени, чем сербской и болгарской.
— В житии Константина Философа удивительным образом присутствуют практически все тогдашние страны, о которых мы хоть что-нибудь знаем, там есть и православный Восток, и латинский Запад, есть арабский Халифат, есть Хазария… В жизни одного человека сошлись все судьбы тогдашней Ойкумены. Занимаясь житиями Кирилла и Мефодия, не находили ли вы какие-то отголоски об их подвигах, об их странствиях и путешествиях в летописях других народов?
— Нет, и если бы такие свидетельства были, они наверняка бы вошли в научный обиход. Житие Кирилла уникально, как памятник с необыкновенно большим географическим охватом жизни той эпохи.
Будучи человеком необыкновенно даровитым, Кирилл рано обратил на себя внимание Византийского двора. Его не то, что активно «эксплуатировали», но ещё и постоянно куда-то отправляли — в разные земли, по разным заданиям, и в первую очередь полемическим, поскольку он прославился как великолепной защитник православной догматики.
И мы не знаем, как сложилась бы судьба братьев и судьба славянской письменности, если бы очередным обращением к ним Византийского двора не стала просьба отправиться в Моравскую миссию к славянам, чтобы, по просьбе тамошнего князя Ростислава, завести там служение на славянском языке.
Моравия, — это нынешняя Словакия. Братья отправились туда, когда Кириллу оставалось жить всего несколько лет. Мефодий же после его смерти прожил в Моравии еще 15 лет, не считая трех лет в немецкой монастырской тюрьме.
Это была вторая половина их жизни — не с самых молодых лет они вышли на славянское служение. Во многом им помогло то обстоятельство, что в Фессалониках, где они родились, было много пришлых славян. И в окрестностях Салоник селились славянские племена, часть которых пришла издалека — из восточной Европы, из древней Руси.
Было племя, которое называлось «смоляне», было племя «север»… Были другувиты, — очень похоже на наших белорусских дреговичей. Как они там оказались? Катастрофические сдвиги населения, которые мы называем Великим переселением народов, вовлекли в себя и славян. И волей-неволей они расселились на Балканах, в Фессалониках, в древней Македонии, и здесь вернулись к своему земледельческому мироустройству, быстро наладив добрососедские отношения с греками, собственно с ромеями.
Это счастливое место рождения: с детских лет Мефодия и Кирилла оно способствовало тому, что они узнали и полюбили этот язык. А вот уже взрослое, сознательное устремление к тому, чтобы сделать его основой творческого, переводческого труда, пришло значительно позже, — через десятилетия.
— Многие, когда внимательно читают житие Константина Философа, с удивлением обнаруживают место, где Константину приносят книгу, написанную «русскими письменами». Расскажите, как вы понимаете это место.
— Русские письмена появляются в житии Константина тогда, когда описывается приезд братьев в древний византийский Херсон, — или как его чаще называют, Херсонес. Нынешний Херсонес — это археологический заповедник на окраине Севастополя. И вот здесь, перед тем, как идти дальше на Восток для встречи с хазарами, братья какое-то время прожили и знакомились тут с местной книжной культурой. Для полемики с хазарами требовалось лучше присмотреться к еврейским памятникам: Книге Бытия, другим книгам Пятикнижия и т.д.
Видимо, такое внимание к древним книгам взбудоражило местных жителей, и братьям неожиданно принесли Евангелие и Псалтирь в «русских письменах». В течение не одного столетия внимательного чтения этого эпизода он не вызывал никаких сомнений у русских ученых, историков, лингвистов, философов и филологов.
Но та самая гиперкритика, о которой мы уже говорили, к нему придралась. В тридцатые годы XX век появилось сочинение двух авторов — выходца из дореволюционной России Романа Якобсона и француза Андрэ Вайана, — которые утверждали, что это не «русские» письмена, а «сурские» (т.е. сирийские), и что ошибка вышла из-за того, что какой-то древнерусский книжник, переписывая житие для своих нужд, спутал и вместо «сурские письмена» написал «русские». Русских же, по мнению этих авторов, быть никак не могло, поскольку Русь-де была крайне варварской страной, и не откуда там было взяться грамотеям, которые могли бы, опередив Кирилла и Мефодия, взяться за перевод Евангелия или Псалтыри на русский язык.
Эта полушутливая гипотеза Якобсона и Вайана прижилась, хотя вскоре появилось много охотников, желающих доказать, что это уже не «сурские», а «узкие» или еще какие-то письмена. Находилось много ученых, которые предлагали новые версии, но никак не соглашались с тем, что эти письмена были русскими.
Все это привело к уже полному абсурду, так что сейчас среди достойных ученых снова восстанавливается доверие к первоначальному прочтению: это были русские письмена. Уже тогда, в середине IX века, на Руси были попытки сделать встречные ходы к великой византийской культуре и к великим истинам христианства. Об этом, кстати, свидетельствует и словарь самих переводов Кирилла и Мефодия.
Мы читаем в житие Кирилла, что он начал переводить с Евангелия от Иоанна, с первой главы. Но все слова, которые употребляет Кирилл, — славянские, а значит, у славян уже были слова для выражения таких сложных, высоких и священных понятий, как «свет», «благодать», «истина», «правда». Об этом замечательно написал в одном из своих трудов покойный академик Олег Николаевич Трубачев: в славянском мире даже в языческую пору был большой фонд слов для выражения священных понятий, таких, как «вера» или «рай». А раз такие слова были у язычников, значит, они уже тянулись к христианству, тянулись к истинной вере.
— Интересно было бы поговорить об актуальности этих житий для нашего времени и о некоторых спекуляциях, которые с ними связаны. Наверняка вы читали роман Милорада Павича «Хазарский словарь», посвященный Хазарской миссии Константина. Как вы относитесь к этому произведению?
— Милорад Павич безусловно был одаренным человеком и незаурядным художником, с чрезвычайно развитой способностью к метафорическим выдумкам, что очень характерно для стилистики всего так называемого постмодерна.
Он был чистым постмодернистом, — причем некоторые западные исследователи и критики называют его одним из самых выдающихся постмодернистов. В его произведениях нет никаких следов того, что история, доступная в документах, ему интересна. Павичу интересны только его метафорические ходы и придумки, которые, безусловно, могут обворожить и увлечь какого-то читателя. В нашей русскоязычной литературе мы уже сталкивались с этим — в начале XX века была известна так называемая «одесская школа», в которой были виртуозы метафорической книжности. Хоть это и было искусство ради искусства, но если автор обращался к истории, то хотя бы какие-то внешние признаки реально существующих ситуаций у него можно было найти. А у Павича — нет. Ни Хазарии, ни Византии, ни славян. Все держится на том, что все относительно. Но этим уже никого не удивишь. И ничего не откроешь. И я не думаю, что Павича будут долго читать.
— В свое время он прогремел.
— Прогремел. Это бывает. Когда выключается свет, и начинаются всякие феерии с петардами и всякими искрящимися штучками.

— Юрий Михайлович, еще один важный вопрос. Русская Православная Церковь служит на церковнославянском языке, т.е. на том языке, который напрямую восходит к святым солунским братьям. И получается так, что тех священников и даже иерархов нашей Церкви, которые просят блюсти церковнославянский язык, сторонники русификации богослужения обвиняют в том, что они являются «триязычниками», «пилатниками», т.е. теми, кто был противником святых братьев.
Как вы считаете, насколько для современного русского человека, который искренне хочет разобраться в богослужении, в догматах Церкви и т.п., сложно усвоить церковнославянский язык? Насколько адекватно это обвинение, когда тех, кто хочет сохранить язык Кирилла и Мефодия, обвиняют в ереси, которую исповедовали противники Кирилла и Мефодия?
— Вы не зря вспомнили этот эпизод из жития Константина Философа, когда перед прибытием в Рим братья оказались в Венеции, и Константин был вынужден вступить в полемику с так называемыми «триязычниками», которых по иному можно назвать книжниками и фарисеями христианского мира, потому что они настаивали на каком-то предельно буквалистском понимании евангельского текста.
В Евангелии от Иоанна мы читаем, что на Кресте Господнем была надпись «Иисус Назарей, царь Иудейский», сделанная на трех языках — еврейском, латинском и на греческом, и знаем, что повеление написать так исходило от Понтия Пилата.
Но неужели Понтий Пилат — такой авторитет для христиан, что от него следует отсчитывать количество священных языков, достойных для богослужения? Только три языка, — но почему только три? И, конечно, Кирилл, видевший всю обстановку на христианском Востоке, знал, что у коптов была своя христианская письменность, у тех же сирийцев, — своя. И у народов Кавказа, — грузин, абхазов, армян — была христианская письменность на своих языках, так почему славяне должны стоять в стороне от этого процесса?!
А по поводу современной критики церковнославянской письменности, считающей ее устаревшей, непригодной для богослужения… Чуть ли не главным аргументом выставляют, что она недоступна современному читателю и слушателю, но это сильное преувеличение.
Я вырос в семье, где дедушка, еще до революции закончивший церковно-приходскую школу, уже мальчиком ходил читал Псалтырь по домам, — приглашали читать по покойникам, как принято. А бабушка моя писала, может, слабенько, с ошибками, но она ходила в церковь за четыре версты и пела в церковном хоре. А человек, который поет в церковном хоре, понимает все лучше и глубже, чем какой-то усредненный интеллигент, который приходит, видит что-то непонятное и тут же становится в позу: а вот объясните!
Ему надо всё разжевать. А язык — это не какая-то жвачка, его нужно усваивать, постоянно напрягаясь. Этому учит нас школа. Этому учит нас жизнь с самого малого возраста, когда изо дня в день родители подсказывают своему чадушке, как правильно произносить то или иное слово. Учат его, научают, наказуют, — вот древнее понятие слова «наказывать»: не когда бьют, а когда научают.
Что касается сложности церковнославянского языка, то я скажу, что девяносто процентов речи, записанной Кириллом и Мефодием и их учениками, входит в нашу современную русскую речь.
Я назову два слова, которые есть в славянской Псалтыри Мефодия. Есть там такие понятия: «пространство» и «скорость». Для нас это понятия из современной физики. А там они носят еще и несколько иной характер. «Пространство» — это то, что соединяет человека с Господом Богом. Вот это — великое пространство. Вы чувствуете, как сразу в этом слове звучит великий дополнительный смысл. Это не просто холодное пространство — это расстояние между Богом и человеком! Также и «скорость»: это движение слова от Бога к человеку и от человека к Богу. Вот какие были сразу заданы важнейшие оттенки смысла.
Надо просто выучить 10-15 слов, и многое сразу встанет на место.
2013 г.
