ЕЛЕНА, НИКИТА, АНИЦА
(Детский план града Београда)
И в какой бы город или селение вы ни вошли, узнайте,
кто в нем достоин, и там пребудьте, пока не выйдете.
Мф. 10, 11
Знакомство с новым городом, тем более, со столицей целой страны хочется начать с чего-то главного, разве не так? С какого-то излюбленного его обитателями места. Но мы с моим спутником по этой поездке Виктором Калугиным твёрдо решили: не станем-ка в первый же день по прибытии расслабляться и на что-то знаменитое или зазывное отвлекаться. Как записано в нашей заявке на эту поездку, (а она – шуточное ли дело? – утверждена иностранной комиссией Союза писателей СССР), так и будем здесь действовать. И потому с утра пораньше от гостиницы «Югославия», стоящей как бы на отшибе, на берегу то ли Дуная, то ли Савы (расспрашивать поначалу нам показалось стеснительно), докатили автобусом из новой, судя по застройке, части города, в старую – до конечной остановки Студентски трг (Студенческая площадь). А уж отсюда нам предстояло, оставив за спиной фасадные окна Белградского университета, действовать по инструкции, великодушно вручённой мне накануне в Москве профессором филологического факультета МГУ Никитой Ильичём Толстым, правнуком автора «Войны и мира».
Инструкция была всего об одной страничке, но необыкновенно живописная.
– Ты, Витя, не представляешь, – говорил я Калугину, пока извлекал сложенный вчетверо лист хорошей пищей бумаги из внутреннего кармана куртки, – как он меня растрогал вот этим планом… Он будто, пока рисовал его, перенёсся воображением в город своего детства… Оказывается, он не только вырос, но даже родился здесь, в королевской ещё Югославии… Вот, полюбуйся…
По верху страницы шло написанное от руки, как и всё остальное, что на ней уместилось, название трогательного документа-произведения
ПЛАН ГРАДА БЕОГРАДА
Крупные заглавные буквы были выведены зелёной пастой. Сразу под ними отчётливо проступали синие берега двух рек: с юга впадала в Дунав Сава, а сам он обтекал город с севера, почтительно огибая то ли остров, то ли валунообразный холм, который на рисунке Толстого тоже был синим и назывался Калемегдан. У юго-западного выступа этого Калемегдана обращали на себя внимание два отдельных квадратика, тоже синего цвета, и к ним сбоку устремлялись зелёные стрелки. Одна подсказывала, что на плане обозначена Саборна црква, а другая, – что тут находятся Патриаршија и Музеј Српске Церкве. Все надписи были сербские, значит, почти не отличались от нашей русской гражданской кириллицы. Просто, после реформы правописания, которую в XIX веке ввёл Вук Караджич, сербская кириллица приобрела несколько новых букв.
– Ну, понятно, – сказал я вслух. – Толстой захотел нам с тобой, невегласам, неназойливо подсказать: если уж собрались на родину Вука, то неплохо бы для начала подучиться буквам этой самой «вуковицы».
– А зачем, собственно, Караджич её, «вуковицу», ввёл? – как-то неуверенно спросил Калугин. – Разве не хватило ему нашей старой кириллицы?
– Подожди-ка, Витя! – осадил я его недоумение. – Давай «вуковицу» обсудим попозже. Видишь, мы, кажется, почти и пришли. Вот на плане – улица какого-то Кнез Михајила, вот, на той же улице – Академија Наука. Здание самое изо всех большое, даже красной ручкой заштриховано. А вот – наш Студентский трг, где мы с тобой торчим и топчемся. Но, а справа-то, за зелёным бульварчиком, читай, что это там – и тоже заштриховано красным?
– Миха-лыч! – как-то даже поперхнулся сдержанный Калугин. – Справа он и есть: Вуков и До-си-тејев музеј.
Радуясь тому, что самонужнейшее нам находится так близко, всего через три минуты мы подошли к двухэтажному особняку с двумя узкими высокими дымоходными трубами над четырёхскатной кровлей, крытой красной черепичкой. Глянулось ли нам изящество труб, похожих на четырёхгранные башенки с арочками и поясками, тронула ли меленькая, старого фасона черепичка, ободрила ли прочность старого дерева, раскинувшего крону чуть не на половину крохотного палисадника перед фасадом, но нам особняк сразу показался самым старинным зданием изо всех белградских, которые мельком видели до этой минуты.
Мы зашли в палисадник и позвонили у парадной двери. Пожилая женщина в тёмной служебной форме, по виду привратница, на вопрос «Можно ли видеть госпожу Елену Шаулич?» попросила нас подождать и удалилась из просторной прихожей в другую комнату или залу. Вскоре дверь широко распахнулась, и нам навстречу стремительно выплыла дородная дама выше среднего роста в вязаном неярком джемпере и тёмной вязаной юбке чуть выше щиколоток. Приближаясь к нам, она с неопасливым, но сдержанным любопытством поглядывала то на одного, то на другого бородача, явно не из здешних.
Я уже заранее знал от Толстого, что Елена Шаулич свободно изъясняется по-русски и потому, сделав полшага вперёд, представился:
– Доброе утро, госпожа Елена, и извините, что мы без звонка, без предупреждения… Но мы лишь вчера прилетели из Москвы и, в первую очередь, навещаем сегодня Ваш музей – по рекомендации Никиты Ильича Толстого… А он, тоже в первую очередь, просил передать Вам своё сердечное дружеское приветствие. Сверх того, он вручил нам вот этот свой рукописный путеводитель по граду Београду, чтобы мы не заблудились в неизвестном для нас городе, а сразу же нашли Вас.
Пока я досказывал своё приветствие и объяснение, план уже плавно перелетел в руки Елены Шаулич. Её просторное крестьянское лицо заполнялось сиянием нежданной радости, глаза чуть повлажнели и заискрились. Она то всматривалась в буквы и цветопись картинки, то невольно прижимала её к груди и что-то шептала. То даже, как мне почудилось на миг, порывалась её поцеловать.
– О, Никита… о, Толстой … он е као дэтэ…. Он же как дитя это нарисовал, – наконец, залепетала она – тоже каким-то детским, при её дородности, голосом. – Вы же знаете: он – наш! Он у нас вырос, у нас учился… Из Београда в сорок четвёртом году ушёл в Красную Армию. Как доброволец… Милый Ни-ки-та…
Тут она опомнилась:
– А вы, друзья мои дорогие… расскажите же о себе. Что бы мне для вас хорошее сделать?
Пора было показать, что Никита Толстой указал путь к её музею не каким-то случайным лицам.
– Мой друг Виктор Калугин, – показал я на своего соседа,– известный у нас в стране исследователь и знаток фольклора. Ещё в студенческие годы работал в экспедициях на русском Севере, записывал былины от старых сказителей… Выпустил уже несколько сборников былинных текстов, со своими статьями и комментариями, пишет книгу о наших знаменитых фольклористах, ещё дореволюционных… Вот почему наш Союз писателей дал ему эту командировку к вам, на родину Вука Караджича, самого первого фольклориста и этнографа Сербии… И меня тоже интересует наследие Караджича, но еще и как творчество историка, в связи с его трудами о Карагеоргии…
Тем временем Елена, то заходя чуть сбоку, то пропуская вперёд себя, уже выводила нас на второй этаж, где располагались экспозиции музея.
– Михалыч, ты, конечно, поскромничал, – подправлял меня по пути Виктор, – не сказав о себе, что являешься автором уже трёх книг в нашей известной биографической серии, в том числе, книги о герое Куликовской битвы князе Дмитрии Донском…
– О, Михалич! – воскликнула Елена. – Как мне нравится этот русский обычай, когда называют человека по имени его отца!.. Можно, и я буду так называть вас – Михалич?.. Это не будет фамильярно?
– Нисколько. И большое спасибо вам, Елена за честь, оказанную моему отцу… А Виктор у нас, кстати, – тоже Ильич, правда, ещё не такой знаменитый, как Никита Ильич…
– О, Толстой! – рассмеялась Елена. – Его ведь наша Академия уже приняла в свои почётные академики…
И – тотчас закрутилась карусель музейных, всегда таких воздушных хождений, метаний, перенесений – из зала в зал, от портрета к старой гравюре, от самовара, когда-то привезенного Караджичем из России, к его яворовым гуслям и луле – табачной трубке, от рукописей-автографов к витрине с пистолетами и ружьями времён Первого Сербского восстания, от самого Вука – к его современнику, тоже просветителю, но более западной ориентации, Доситею Обрадовичу, – чтобы затем снова перенестись поближе к Караджичу.
Елена же, придержав наше внимание у какого-то очередного важного документа, вдруг на минуту исчезнет, а потом лестничные ступени снова благодушно заскрипят, паркетины запиликают, и она, шумно дыша, возвратится с целой стопой книг и журналов, знакомство с которыми нам предстоит – то ли сейчас же, то ли завтра либо послезавтра, потому что нельзя же таких важных посетителей ублажить одними только витринами и копиями.
– О, а кафа? – спохватывается она. Но, глянув на старинные часы в углу комнаты, делает себе рукой озорную отмашку. – Нет, Бога ми, не будет вам здесь никакая кафа?.. А ну, одевайтесь, дорогие мои Михалич, Илич!.. треба да идэм у Коларац. Вы же у меня совсем гладни?.. Что подумает обо мне Толстой?.. Приняла гостей и нахранила одной кафой?.. Айдемо, напрэд!.. На кнеза Михаила…
Вспомнив, что название этой улицы есть на плане, который продолжает лежать на столе рядом с книгами и журналами, я говорю ей, что надо бы его взять с собой, чтобы сегодня или завтра с его помощью, рассмотреть хоть что-то ещё.
– О, да, обавезно – обязательно, – подтверждает Елена, хотя, мне кажется, ей сегодня не хотелось бы расставаться с этим нежданной вестью от её Толстого.
В сторону всё той же Студенческой площади она выступает широким командирским шагом. Полы её длинного пальто, разлетаются, мы, замешкавшись, чуть отстаём, но тут же нагоняем её.
– В каком же замечательном, отличном ото всех доме находится ваш музей! – восхищается Виктор. – Жил ли в нём сам Караджич?
– Всем, кто к нам приходит, хочется, чтобы он жил точно здесь, – смеётся Елена. – На жалость, мы не знаем, где именно он жил в том – старом Београде… И при Карагеоргии, и у князя Милоша Обреновича… На жалость, от старого Београда времени турецкого пашалука почти ничего не осталось… Знаете: войны… пожары…. бомбардованья, да, бомбар-дировки… Признаюсь вам, иногда и нам тоже кажется: он жил в таком вот легендарном доме, как наш, обычном и достойном…
Она чуть задыхается от ходьбы, идти всё-таки под горку… Но остановиться не желает, – и вот уже влетаем в какой-то тенистый и узкий университетский проулок, где она снова, как поводырь, размашисто выступаёт вперёд, а мы послушно семеним следом. Чтобы вдруг оказаться посреди замедленного, как во сне, неспешно-праздного многолюдства, где хозяевами – одни лишь зачарованные пешеходы…
– Ну, друзья мои, вот и она, наша кнез Михайлова улица.
Я прикусываю язык, чтобы не сравнить это блаженное видение с московским Арбатом. («Да какой уж там Арбат? – вздохнёт поздно вечером и Виктор. – Жалкая пародия».)
Между тем Елена Шаулич, наконец-то, переводит дух:
– Драги гости, Михалич и Илич, вы поработали сегодня, пора и отдохнуть. Вуков музей приглашает вас на скромную трапезу – в наш «Коларац».
То, что называется «Коларац», если теперь не изменила память, я бы уподобил старинной мягко освещённой полупещере, озвученной благодушным шелестом бесед и самых тихих, самых неназойливых на свете балканских мелодий, которым нисколько не мешает камертонное позвякивание столовых приборов. Прекрасная наша Елена, если мы и были накануне, как ты считаешь, гладни, то, едва войдя сюда, уже и сыты! И, сколько бы после того дня и часа и где бы потом ни трапезовали мы, вдвоём с Калугиным, а чаще пораздельно, но твой «Коларац» навсегда останется превыше всех сравнений, будто с нами за тем столом незримо присутствовали и чуть грустные Карагеоргий с Караджичем, и ты сама, конечно… Хотя ты-то почти тут же и оставила нас, даже не присев за ослепляющую белизной скатерть, а только дав какие-то распоряжения пожилому, дружелюбно кивающему тебе распорядителю застолий. И проплыла мимо столиков большой, но почти бестелесной тенью, пообещав перед исчезновением, что мы ещё обязательно-обавезно потрапезуем вместе, но – через день или два. А завтра, если не передумаем, можно будет в музее продолжить знакомство со всем-всем, что только нам ни захочется прочитать и посмотреть…
Не возьмусь даже перечислять, чтобы не осрамиться, сколько всего разного и что именно нам, слегка смущённым её уходом, было принесено, начиная с закусок и кончая белградской «турской кафой», после которой дружелюбный хозяин предложил ещё напоследок – от «Коларчевой» «на русский посошок» – по рюмочке той самой прозрачной и пронзительной «препеченицы», которая перед тем подавалась и к огнеподобному мясу, и к квашеным красным перцам.
На кнеза Михаила было ещё светло. Нам захотелось слегка прийти в себя от такого счастливого, благодаря плану-замыслу Толстого, начала своей командировки. Казалось, здесь, рядом с подъездом Академии наук, обочь с лучшими книжными магазинами страны, сизо-пепельным декабрьским предвечерием весь белградский свет и полусвет утешает себя несуетной прогулкой. Иногда – с вялым заходом в самые дорогие магазины или просто небрежным стоянием перед витринами и заоконными экспозициями чьих-то полупустых художественных ателье или выставок. Лишь в одном месте, у входа в чей-то выставочный зал мы неожиданно увидели напряжённую очередь человек в четыреста, не меньше. И лишь подойдя совсем близко, к тихому своему ликованию обнаружили, что, оказывается, в Белград накануне прибыла большая выставка картин Ильи Репина, и народ «прёт» именно на автора «Не ждали?».
– А что, Витя, давай-ка мы ещё и в университет постучимся, как посоветовал Толстой, и узнаем, на месте ли его друг Андрей Тарасьев, – совсем развеселился я. – А вдруг и его удивим: «Не ждали?». (Но подробнее о встрече именно с Тарасьевым можно будет прочитать в этой книге немного ниже, в рассказе «Андрей»).
Уже в гостинице, перед сном, вспоминая подробности целого дня, мы вдруг нешуточно заподозревали: а не подвох ли всё, что произошло, не игра ли нашего расшалившегося воображения?.. Ведь нам, персонам, совсем не избалованным вниманием в иноземстве, сегодня для полного счастья хватило бы встречи с одной лишь прекрасной и блаженной Еленой, даже если бы она напоследок попотчевала незваных гостей всего только музейной кафой. Да и без кафы было бы чудесно!..
Но дальше-то, после «Коларца», кнез Михаила и Репина что с нами ещё наприключалось?
Тарасьев, друг Толстого чуть не с детских лет, уже, наверное, и домой собирался из кабинета славистики, до потолка уставленного книжными полками, а тут мы со своим «Не ждали?»… И ведь тотчас пошло-поехало. Впрочем, при размахе натуры Андрея разве могло такое быть, чтобы тут же не пошло-не поехало? Не успел он в честь негаданной встречи налить гостям и себе по крошечной рюмочке какого-то медалированного виньяка, как входит на огонёк опекаемый им литературный питомец по имени Зоран – молодой поэт-герцеговинец трагической наружности, хриплогорлый, высокий и тощий как жердь.
Слово за слово, – заглядывает коллега Андрея с соседней кафедры. Этого лингвиста, тоже высоченного, зовут Богдан Терзич. Но, едва заслышав нашу русскую речь, он тут же объявляет своим щедрым баритоном, что уж мы-то вполне можем именовать его по-свойски – Федотом Портновым. Почему? Да потому, что именно так его окрестил однажды на русский манер сам академик Виноградов: ведь сербское «терзич» переводится как «портной», а Богдан – это греческое Феодот, то бишь, наш Федот…
Маленького общего восторга по поводу двойного славянского гражданства Терзича-Портнова нисколько не остудило и появление бледнолицего Джордже Трифуновича. Этот негромкий, скромнейшего облика пришелец хотел было сразу же ретироваться, прошептав Андрею, что заглянет после Рождества или Крещения, но Тарасьев по-хозяйски вывел его на середину комнаты и объявил, что мы имеем редчайший случай увидеть сущего университетского затворника – самого выдающегося на свете знатока древнесербской письменности, которого можно сравнить разве лишь с пушкинским Пименом «Из Бориса Годунова». Джордже стоял потупясь, явно томясь, будто его уличали, как Гришку Отрепьева в корчме, и не притрагивался к налитой и для него рюмочке. И только когда услышал, что один из нас написал исследование «Герои русского эпоса», а второй даже в летописи заглядывал, сверяя по ним даты и сведения для своего «Дмитрия Донского», глаза Трифуновича чуть потеплели, а на щеках просквозил румянец. И рюмочкой он со всеми всё же чокнулся…
Затем ещё заглядывала ненадолго пожилая, но весёлая профессорша и пригласила всех на завтрашнюю «Крестную славу». Пусть и москвичи посмотрят, как в стенах Белградского университета слависты отмечают – и студенты, и преподаватели – этот сербский праздник каждого православного рода и дома, который и Брозу Тито не удалось выкорчевать из народного бытия.
А Любинко! Живописнейший Любинко Раденкович, молодой пышнобородый усач с угольно-чёрной шевелюрой, исследователь народных заговоров, притч, загадок, обрядов, инструментов… Он обещал у себя дома показать нам редкой красоты фамильные гусли. И, конечно, же он сводит нас на Калемегдан – древнюю белградскую крепость, заложенную когда-то ещё римлянами. А там рядом и Соборная церковь, у входа в которую лежат мемориальные плиты с именами Вука Караджича и Доситея Обрадовича… Но туда нас поведёт уже Андрей, потому что он сам хочет показать нам и мощи святого князя Лазаря, обезглавленного на Косовом поле, а они сберегаются именно в Соборной… И ещё он хочет позвать с нами Марфу Толстую… Ну да, оказывается, это дочь Никиты, и она учится здесь, под духовным призором дядьки Андрея.
– Калемегдан… Соборная… Дунав… Елена… Студентский трг, – перебирал я вслух слова. – Вот видишь, Витя, всё, что накатило на нас как наваждение – оно же явно из одного источника. От этого Толстовского плана… Наверное, он их ещё и обзвонил, и предупредил о нашем с тобой появлении – Елену, Андрея… А если не обзвонил, то достаточно для них оказалось и нежданной картинки…
– А ты слышал, – припомнил Калугин, – кто-то из сербов у Тарасьева сказал, будто извиняясь, что Вук всё же погорячился, добавив в старую кириллицу несколько новых букв?
– Ладно, Витя, – зевнул я, – отложим «вуковицу» для более сведущих знатоков, чем мы с тобой. Лаку ноч.
А всё-таки, – думал я уже посреди ночи, про себя, – почему Елену так взволновала страничка с цветными записями? Может, они тоже знали друг друга с детства, учились в соседних гимназиях? Может, были даже влюблены друг в друга?… Или она безответно влюбилась, как и другие её подружки, в такого красивого, высокого и статного правнука самого Лава Толстоя. Но вот в сорок четвёртом он уйдёт в Красную Армию и уже сюда насовсем никогда не вернётся… А она? А прекрасная, сокровенно щедрая душой Елена так и останется одна. И ни за кого не выйдет замуж… Впрочем, что это меня тянет в какие-то романтические преувеличения? Наверное, это Дунай-Дунав, оттого что течёт он совсем рядом, и наколдовывает, наборматывает свои всегдашние сентиментальные россказни… Впрочем, Дунай это всё же или Сава? Кто-то сказал сегодня, что Дунай, но под отелем мы наблюдали его не очень широкий рукав, а главное русло, отсюда не видное, – за деревьями острова, за туманом.
* * *
Какие бы неожиданные адреса и темы нас в следующие дни не отваживали от музея, мы неизменно со своими рабочими намерениями навещали Вуков дом. Не помню, конечно, книг здешней подсобной библиотеки, которыми занялся Калугин, но, перелистывая теперь свои пожелтевшие странички, сложенные по-тетрадочно, вижу: перво-наперво мне захотелось познакомиться с большим исследованием самой Елены Шаулич. Не она попросила. Сам выбрал из стопы принесенных ею накануне печатных работ. Эта называлась просто, без всякой терминологической оснастки: «Вук и породица» (Вук и семья). Пролистав книгу по первому разу, я тотчас понял: теперь надо вчитаться гораздо внимательней. Понял и другое: о Караджиче и его семье так исчерпывающе, с таким вниманием к подробностям семейной жизни человека, известного всей читающей Европе, могла написать только женщина. Причём, сербская женщина, всем нутром ведающая, как значимы в судьбе её земли такие понятия как род, племя, колено, очаг, дом, лоза… Скажут: ну, у всех же так, не у одних лишь сербов. А у древних иудеев разве не так? А у китайцев, знающих наперечёт все семьдесят с лишним поколений, которым положил начало их родоначальник Конфуций? А Пушкин разве не знал свою родословную ещё от боярина из дружины Александра Невского?..
Не стану ни с кем спорить, никого переубеждать. В чём я смогу переубедить Елену, сострадающую своему Вуку, как отцу родному, когда у него умерла дочь Ружа, и он сокрушается в письме: «От двадцати детей осталась только дочь на двенадцатом году и сын на пятом»? Или когда он же пишет в Россию императору Николаю I с ходатайством о своём сыне Саве, а через два года – старому знакомцу Петру Кеппену сообщает о намерении приехать в Петербург и забрать Саву домой, потому что болеет его Сава. Не успел, и Саву похоронят на Смоленском кладбище… Или когда жалуется архимандриту Лукиану Мушицкому, надеясь на его помощь, уже не первую: «Зимно доба (время), а дрва нэма, хлеба нэма, а новаца (денег) нэма»… Могу ли после таких строк упрекнуть Елену, когда она пишет о прижимистости Вука, не любящего отдавать долги?.. Она выстраивает контуры незауряднейшего характера, вошедшего в тесное и подчас жёсткое соприкосновение с характерами трагическими… И вот он, серб до последней капли крови, вынужден десятилетиями жить в австрийской Вене и слышать ежедневно, что дети его и дома говорят по-немецки… Не потому ли он всё порывается в отчую Герцеговину и далее, в Черногорию, к владыке Петру Негошу – песни слушать и записывать, книгу свою о Черногории дописать. И от старых долгов прячется, и новыми обрастает, чтобы отпечатать, наконец, второе издание своего «Речника» в котором будет уже 46 тысяч, а не 26 тысяч сербских слов, как в первом, который когда-то в Россию возил, адмиралу Шишкову и Карамзину дарил…
Мне, конечно, захотелось показать Елене машинопись и своего очерка о Караджиче, который, как я знал, через месяц уже появится в журнале «Литературная учёба». Но пусть она будет снисходительна: ведь это, по сравнению с её фундаментальной работой, чисто ученическая проба пера.
– Михалич, – Елена в шутку погрозила мне указательным пальцем, – я уверена, вы никак не можете быть мой ученик.
Наступил день, кода она пригласила нас с Виктором и к себе домой. Мы знали, что она живёт вдвоём со своей старенькой матерью по имени Аница, которая до сих пор пишет и иногда печатает стихи, эссе и собирает сборник пословиц, посвящённых сербским женщинам. Ехали к ним от центра автобусом № 17 и вышли на улице Огнена прице, где без труда нашли нужный номер, хотя его, конечно, на плане Толстого уже не было.
Ещё накануне, в музее Елена показала нами работы своего отца, известного фольклориста Новицы Шаулича, который, судя по всему, считался в Сербии известнейшим продолжателем собирательских трудов Вука Караджича и ездил в экспедиции по преимуществу в Черногорию, откуда, похоже, и сам был родом. Не помню, подтвердила ли нашу догадку Елена, но когда мы уже сидели с Шауличками, мамой и дочкой, за беседой в большой просторной комнате, они пожаловались, что во время войны вынуждены были прятаться в почти недоступном для немцев или итальянцев черногорском селе, а тут, в этом их доме стояли какие-то немцы-оккупанты.
Аница Шаулич своим обликом просто умилила нас с Виктором. Это была маленькая беленькая голубка, родившаяся на свет Божий ещё в последний год XIX века. Даже не верилось, что такая малютка подарила мужу, догадываюсь, черногорского телосложения столь величавую Елену.
Тема семьи, семейного искусства, семейной мудрости витала над столом. Елена попросила, чтобы мы и Анице показали страничку с цветным Београдом Толстого.
– Дивно… он е као дете. Как малое дитя любит наш Београд, – пролепетала Аница.
– А вы не откажетесь почитать нам сегодня какие-нибудь сербские пословицы? – попросили мы.
– С удовольствием, – согласилась Аница. – Элена, ты знаешь, где моя книжица?
Дочь быстро принесла нужный сборничек.
– Ну, послушайте… Нэ стои куча на земли, нэго на жени… Это понятно? Не стоит дом на земле, но на жене.
– Да, прекрасный образ!
– Но серб готов и подшутить над женой. И тогда говорит: Жена может хранить только едну тайну… койой не зна. Которой она не знает.
– Да, это тонко замечено.
– А вот вам и шутка: видела баба иглу на кули, значит, на башне, а не видела кулу.
– Тоже тонко замечено!
– Нэ мала баба бриге, та купила прасэ.
– Но так ведь и у нас: не имела баба хлопот – купила порося.
– А вот вам о женской доле: когда девойка родится, огонь на кострище плачет… Или ещё предупреждение: Одно дэтэ – одно око в глави… Ну, и напоследок, чтоб не грустно всем было: Какав отац – такав син, каква майка – таква кчи. Хорошая у меня дочь?
–У прекрасной матери и дочь прекрасная!..
Тут Елена стремительно отплыла на кухню. Что-то там у неё зашкворчало.
– А были ли вы, дорогие мои, в Черногории? – спросила Аница.
– Нет… Не были мы в Черногории.
– Зато побывали у Вука. Теперь надо и у владыки Петра побывать. У нашего Негоша.
– Мама даже роман написала, – говорит разрумянившаяся Елена, внося на руках какое-то великое, пышущее жаром блюдо. – Там, в романе и владыка Петр, и самый близкий ему человек… слуга, нет, не слуга, не камердинер, а дядька или нянька?… словом, домашний его покровитель и душехранитель, от всякой беды оберегатель Новица Церович.
Белая голубка Аница тоже разрумянилась:
– Да, этот чудесный Новица Церович, я не сочинила его. Он был!.. Владыка Петр молод и уже митрополит, красавец, поэт, говорит на главных языках Европы, и иностранцы забираются на гору, в Цетинье, посмотреть на живое чудо, написавшее «Луч микрокосма», «Горский венац», да, венец!.. вот и ещё какие-то три англичанина в шляпах, шароварах входят к владыке в большую залу, даже шляп не снимают, признаются со смехом по-французски, что они – дамы… И он смеётся их шалости. Какое искушение для невинного владыки!.. Новица Церович огорчён, что опоздал. «Кто это были у вас?» – «Англичанки, Ново, ну и что?» – смеется владыка. – «А то, что подступает последнее время, если уже и девки носят портки».
Мне хочется прочитать этот её роман, и Аница Шаулич бисерными буквицами надписывает карманного формата книжку «Новица Церович». Пожилой белоусый герой смотрит с обложки сурово, будто досадует, что не углядел за шустрыми переодетыми туристками.
– Да, женские шалости, – улыбается Аница. – Но есть и большие тайны у женщины, глубокие, никому не выставит напоказ…. Помню, мы приехали в Ленинград после войны. На улице я спросила у женщины, как пройти к Исаакиевскому собору. – А вы откуда? – Из Югославии. – А откуда? – Из Сербии. – А откуда? – Из Белграда. – Милая вы моя!.. Обняла меня тут же ушла.
* * *
Утром, к нашей с Виктором неожиданности, Елена появилась на стоянке, от которой автобус отходил в сторону аэропорта. Таков обычай сербской женщины встречать или провожать – на перроне вокзала, или у дверей автобуса. И у русской женщины остаются обычаи. «Михалич, Илич», – пролепетала она, вручая нам небольшие коробочки с подарками – для жён, внучек. Ещё будут встречи в Белграде, письма, открытки, надежды, что и она побывает в Москве. Останется единственная с нею фотография, снятая в то самое утро. Хорош всё же и этот обычай – не пускать слезу при расставании.
Мы не знали, даже предчувствовать не умели, что уже неумолимо подступают те «последние времена», о которых и сербов, и русских предупреждали ещё древние гусляры и летописцы. А теперь «последние» вдруг подступили и к Югославии. И, почти одновременно, к СССР.
Самым трудным после всего пережитого оказалось не забыть дорогих, милых имён, чистых душ.
1986, 2015
ВЕСЕЛИН
– Юрий?!.. Алло! Это Юрий?.. Здраво!.. Я сам Веселин… Веселин Джуретич, профессор, историчар из Београда… Ваш телефонский номер дала мне секретарица од Савеза книжевника Русие. Примите мой срдачный поздрав!.. Я сам видео вечерас грандиозну трансляцию московске телевизие – отворенье Международног Фонда славенской письменности и культуре… Победа!.. Ово е велика победа всего православног словенства!.. Сьяйно!… Слушайте, сьяйно! Я сам всьо видео и слушао – академика Никиту Толстоя, митрополита Питирима, Эдуарда Володина… архимандрита Иннокентия, нашег Радмила Мароевича, вас, Юрий… Я сам у Москви данас и хочу да видим вас и поздравим… Завтра? Одлично!.. У Савезу книжевника?.. Разумем! Метро Парк культуры?.. Комсомольский проспект, 13?.. Обавезно! До видженья!..
Нет, поразительно всё же. Более четверти века минуло, а эта горячая, клочьями лавы хлещущая из телефонной трубки речь до сих пор звенит у меня в ушах. Ну, Веселин! Ну, темперамент! Обрыскай всю Сербию – не сыщешь подобия Веселину. Это как же он говорит?! Таким, как он, похоже, совсем некогда зубрить грамматические правила! Зато его дикая русско-сербская речь несётся, не спотыкаясь… Подумаешь, ошибки! Главное, чтобы между нами была прямота и ясность. Сердце не варвар, оно не ошибается. Вперёд, напред!.. Победа!
Его рокочущая гортань, кажется, способна разносить весть о победе не то что из комнаты в другую или с этажа на этаж. Нет! – с горы на соседнюю гору, из страны в страну… Я не успеваю по высоким пролётам лестницы подняться в кабинет, где условились встретиться, а его счастливый смех, подобный ржанию коня, уже летит навстречу по длинному коридору. Распахиваю дверь. Да тут целое сборище будто с ума посходивших славянофилов! Вот-вот закружатся в бешеном сербском коло… Тот же Эдуард Володин, те же Серёжа Лыкошин, Юра Юшкин, полковник Куличкин… А посредине? Так и есть – это он, Джуретич! Полюбуйтесь, на Веселина: клювастый орлий нос, пронзительные угли глаз из-под нависших густых бровей; лоб, стремительно летящий к переносью. Плотен, коренаст, будто сосна на ветрах, вросшая в скальные жилы.
– Ну, здраво, Веселин!.. Точно, победа?
– Тачно! Тако е, Юрий, победа!.. Сьяйно!
И тут же переходим на «ты».
И тут же, как матёрый виночерпий, он вынимает из-за мощной своей спины тяжёлую бутыль монастырской препеченицы, быстро и твёрдо отмеряет каждому по доброму глотку.
– За нашу победу!– философическим баритоном уточняет Эдуард.
– Живели! – восклицает Веселин.
Я уже слышал это сербское приветствие и объясняю замершим от удивления друзьям:
– Живели – значит: да будем жить и здравствовать. Но, видите, у Веселина получается куда короче, сильнее: живели!
* * *
Да, в те предмайские дни мы жили чувством, что славянская победа, как и в 45-м, снова оборачивает к стране свой растроганный лик. Только что партия и правительство, будто расщедрившись, позволили Русской Православной церкви необычно широко отпраздновать 1000-летие Крещения Руси, и приурочить к этому событию сразу несколько канонизаций: в сонм русских святых вошли одновременно и благоверный князь Димитрий Донской, и преподобные Андрей Рублёв, Максим Грек, Паисий Величковский, Амвросий Оптинский, и блаженная Ксения Петебургская, и святители – митрополит Московский Макарий, Игнатий Брянчанинов, Феофан Затворник… И только что учреждён в Советском Союзе Международный фонд славянской письменности и культуры, а председателем его избран академик Никита Толстой… И только что собрался Координационный совет такой долгожданной «Русской энциклопедии» – во главе с академиком Олегом Трубачёвым… И только что, – добавляет Лыкошин, – сдан в набор 16-й выпуск альманаха «Прометей», целиком посвящённый Тысячелетию русской книжности, и такого великолепного издания не только в «Молодой гвардии», во всём Союзе ещё не было!..
Да у нас теперь тут каждый месяц, каждую неделю происходит нечто такое, чего ещё не было, от роду не бывало. И мы готовы немедленно пригласить своего восторженного белградского гостя – на одну, на другую встречу, на выставку, на показ фильмов… Сергей Лыкошин достаёт только что привезенную из типографии пачку приглашений в Колонный зал. Там, в Колонном, 1 июня должен пройти торжественный вечер, посвященный 600-летию со дня кончины Димитрия Донского, отныне святого, благоверного князя. И наш Краснознамённый хор Советской Армии прибудет всем составом, чтобы исполнить «Вставай, страна огромная»…
– О, сьяйно! – восклицает Веселин. – И ово е победа – ваша и наша велика победа!.. Жао ми, я прекосутра отичу у Београд… Али, драги мои приятели, обавезно видечу вас – и у Москви или код нас, у Србии… Живели!
А в сентябре того же года Джуретич отыскивает меня уже в Белграде, куда я привёз на Международную конференцию в Дни Вука Караджича своё выступление, связанное с темой Косовской битвы. Всё это замечательно, считает Веселин, но нам с ним непременно надо побывать ещё в двух-трёх местах. И, прежде всего, – на встрече сербских интеллектуалов – историков, писателей, публицистов. Она состоится на Французской, 7, в Клубе писателей. Всё сейчас, – торопится объяснить Веселин, – раскалено добела! Вопрос, по поводу которого устраивается встреча, более не терпит отсрочки!.. Речь идёт об исторической судьбе больших анклавов исконно сербского населения, того, что веками обитало в землях, захваченных Австро-Венгрией. В нынешней после-титовской Югославии сербы из этих областей всё больше чувствуют себя изгоями. Слоган Броза «Братство-единство» оказался фиговым листком. Изо дня в день на местах растут притеснения со стороны националистически настроенных республиканских властей. Сербы Хорватии, Боснии, Герцеговины нуждаются в немедленной духовной поддержке…
В переполненный гудящий зал Клуба писателей он буквально втискивает меня. Сидеть негде, стоять тоже негде. Кое-как прислоняемся к стене, справа от входа. Окна настежь, но всё равно жарко, душно, будто с минуты на минуту накатит гроза. Звучат ещё невнятные мне пока имена: Краина… Срем… Осиек… Баранья… Их не произносят, их выкрикивают, бросают, как головешки. Чаще других слышу: Косово… Воеводина… Зачем Тито дал им автономию?.. Тем самым он открыл им прямой путь к отделению от Сербской республики…
От первых рядов – голоса:
– Где си, Джурэтичу?.. Молим!
С великим трудом Веселин пробирается к трибуне. Глаза-угли вспыхивают из-под чёрных, как тучи, бровей.
– Брачо! Срби!.. то су наши страдници, наша вэлика породица, како оставимо их у беди?..
– Нэмогучно, Джурэтичу! – жарко поддерживает его зал.
* * *
А на утро Веселин назначает место встречи в другой, ещё неизвестной мне части города, овеваемой свежим терпким ветром осени. И он сам сегодня какой-то другой: тихий, торжественный.
– Юрий, хочу да покажем тэби нэшто… Хайдэмо на наш Врачар.
Неспешным паломническим шагом поднимаемся по тротуару на высокий холм. И тут уже без слов становится внятно, где оно сегодня звучит отчётливей всего – биение сердца древнего града. Над стенами беспорядочно сгрудившихся рабочих подсобок светлым облаком вспухает, будто с каждым мигом выше воздымается небывалых объёмов храм-памятник. Вот какое диво посвящает Сербия своему небесному покровителю!
– Как я благодарен тебе, Веселин, что привёл сюда!
Но свои впечатления тех минут мне, пожалуй, не пересказать сегодня проще и непосредственней, чем сделал это вскоре же, по возвращении домой, написав для «Литературной России» статью под названием «Глаза боятся, а руки делают». Начал я её с краткого рассмотрения доводов, достаточно громко звучавших в те дни в российском обществе, на тему о ненужности, неуместности или, по крайней мере, несвоевременности даже поднимать сам вопрос о … восстановлении в Москве Храма Христа Спасителя. Причём, среди «скептиков», как ни странно, чуть ли не громче иных звучали как раз голоса людей, истово верующих. Статья моя имела у нас в стране, как представляется, некоторые, причём, вовсе не маловажные последствия. Приведу здесь из неё лишь ту часть, что касалась посещения белградской стройки.
Итак: «Солнечным утром вдвоем с моим приятелем, известным сербским историком Веселином Джуретичем, подошли к подножию Врачарского холма. Врачар – место в Белграде особое, отмеченное судьбой. В XVII веке османами-завоевателями были здесь сожжены мощи великого сына Сербии – святителя Саввы. А в конце прошлого столетия, по народному волеизъявлению, решили соорудить на вершине холма новый дом Савве – грандиозный храм-памятник, равного которому по размерам еще не было ни в стране, ни вообще на Балканах. Строительство поневоле растягивалось на десятилетия. Особенно помешала вторая мировая война. При гитлеровской оккупации на стройплощадке размещались гаражи. Под хозяйственные нужды использовалась она и в послевоенное время – вплоть до 1985 года. Именно тогда правительство наконец вернуло холм церкви и разрешило возобновить строительные работы. Их возглавил архитектор Бранко Пешич, имя которого сегодня знают и сербские дети.
Может быть, глагол «возобновить» не самый здесь удачный. На тот день каменная кладка стен поднималась на высоту всего от 7 до 12 метров. Бранко Пешич попросил благословения на свои труды у главы Сербской православной церкви патриарха Германа. 12 мая 1985 года «в стенах» храма при громадном стечении народа состоялась торжественная литургия. Патриарх же благословил и новый проект – Пешич решил работать на совершенно иной, чем первоначальная, технической основе: строить с помощью бетонных конструкций. Такое решение обеспечило прежде всего ошеломительный выигрыш во времени. Достаточно сказать, что сегодня все стены уже подняты на проектную высоту и колоссальный по размерам центральный сферический купол увенчал здание. А ведь храм не девять метров превышает «чудо света» – знаменитую константинопольскую Софию. В праздничные дни в стенах Святого Саввы одновременно сможет разместиться до 50 тысяч человек.
Бранко Пешич любезно согласился провести нас внутрь здания. Впечатление от вытесняющих друг друга массивности и воздушности, казалось, доведет меня до головокружения. Где-то на недосягаемой подкупольной высоте, будто спичка, вспыхивал огонек электросварки.
– В этом году, – объяснил Пешич, – закончим все основные строительные работы. В следующем, 1990-м, будем облицовывать мрамором наружные и внутренние стены, водружать колокола и кресты на боковые купола (оглавный крест уже парит над Белградом). И еще два года займет последняя, четвертая фаза работ: обустройство всех многочисленных интерьеров, в том числе создание иконостаса и мозаик.
– Бранко, а достанет ли денег на все это? – спросил я.
– Нам помогает вся Сербия. И сербы, живущие в рассеянии по всему свету. Нам хватит денег.
А ведь Сербия, подумал я про себя, вряд ли богаче, чем Россия. И сербское зарубежье вряд ли богаче, чем русское.
– Бранко, – попросил я. – У меня есть с собой свечка из русской церкви. Нельзя ли ее тут сейчас зажечь?
– Конечно. Я зажгу ее у святого Саввы.
И он пошел к алтарю, к неглубокой нише, в которой с самого начала работ стоит единственная пока на весь пустой храм икона.
– Спасибо, дорогой Бранко, – сказал я, когда он вернулся. – Я привез вам номер «Литературной России» со статьей о нашем Храме Христа Спасителя. Речь идет о его восстановлении. И ваш пример, ваш опыт – дли нас большая поддержка. Так что, когда вы закончите здесь все работы, не удивляйтесь, если вам поступит приглашение из Москвы.
По-моему, он не воспринял мои слова как комплимент или шутку.
– Это очень хорошо, – сказал Бранко Пешич. – Бог в помощь в таком деле. («Литературная Россия». 24 ноября 1989 г. № 47 (1399).
* * *
Не знаю, в каких именно коридорах власти в конце 80-х – начале 90-х окончательно решался вопрос о восстановлении Храма Христа Спасителя. Вполне допускаю, что сведения о строительной новации белградского архитектора, причём. сведения куда более подробные, чем в газетной зарисовке, могли поступить в Москву своими, сугубо корпоративными путями. Но всё-таки обнародование этих сведений, причём в сопровождении двух фотоснимков – достраиваемого собора Саввы Сербского на Врачаре и Храма Христа Спасителя до его уничтожения – состоялось. И обнародовала их именно «Литературная Россия» Эрнста Сафонова – одна из самых тогда читаемых газет страны, и читаемых не только в писательских или окололитературных кругах. Кстати, внедрённая дерзким Бранко Пешичем «эстетика бетонных блоков» многих защитников древней кирпичной кладки возмущала, догадываюсь, и у него на родине. Но событие состоялось. Вернее же, два события: одно – в Белграде, и второе, спустя несколько лет, – в Москве.
Мы потом с Веселином о своём хождении на Врачар, отвлекаемые новыми горячими совместными «сюжетами», как-то вслух больше и не вспомнили. Но, почему-то думаю, всякий раз, когда он навещает Москву и видит, хотя бы издали золотые купола восставшего из небытия великого Храма, мой друг шепчет про себя: «Сьяйно… Победа!»
2015
ВАНЬКА
Чтобы доставиться на Равну Гору – к месту, где во время Второй мировой войны располагался штаб генерала Драже Михайловича, Ваньке Понявичу в воинской части, стоящей в Горнем Милановце, понадобилось выклянчить на день «Ниву». Мне показалось, что он несколько преувеличивает сложность предстоящего нам пути. Ведь почти до каждого сельского дома в Сербии можно докатить по асфальту. Но когда наша «Нива» начала своё затяжное кружение по запущенным серпантинам на голый верх хребтовины, служащей естественной границей Равногорья, я понял: нашему ещё советского образца вездеходику сгодились бы здесь другие прозвища: «Планина», «Стремнина» или «Перевал». Битый час скакали с камня на камень. То урчали на второй, то врубали и первую передачу, когда приходилось одолевать сплошные скользкие булыги.
Наш водитель, журналист из горне-милановского еженедельника «Дечье новине» Зоран Марьянович припомнил, наверное, всю известную ему шоферскую брань по случаю чрезвычайных для техники скрипов, стонов и кренов. Я же воспользовался непрытким ходом, чтобы расспросить Ваньку о происхождении его имени.
– Истина ли е, Ванька, да твой отац, – начал я, не стесняясь варварски мешать сербские слова с русскими,– дал теби твое име, когда после Другог светског рата вратио се из немачког логора?
– Истина е, – с готовностью ответил Ванька, подтвердив тем самым, что предание, которое я услышал ещё в Белграде, не вымысел. Правда, лагерь, как он тут же уточнил, находился не в Германии, а в Австрии. Но русский мальчик, которого заключённые сербы звали Ванькой, там, действительно, был. И, действительно, перед смертью этого Ваньки от голодного истощения сербский солдат из Горнего Милановца поклялся про себя: если суждено ему вернуться домой и если родится у него сын, даст ему имя Ванька.
Но это ещё не всё. У Понявича-отца, вернувшегося из лагеря, был брат, и звали его Иван. Во время войны Иван Понявич ушёл к четникам, а это значит, он боролся не только против немцев, но и против коммунистов- партизан. В сорок пятом, когда партизаны по равногорским лесам и ущельям отлавливали последних четников, тяжело раненый Иван оказался в окружении и, не ожидая милости от титовских следопытов, которые на своих пилотках носили красную пятиугольную звезду – вместо сербского белого двуглавого орла – застрелился.
– Отец не решил дать мне имя Иван, – объясняет Ванька. – Шёл сорок седьмой. Местные коммунисты сказали бы: «Значит, он сынка назвал в память того четнического гада». Но всё же в церкви меня крестили как Ивана. В документах же записано: Ванька. Именем того русского мальчишки я и подписываю свои газетные и журнальные статьи.
* * *
Но теперь хоть немного – о Равной Горе и о четниках-равногорцах. Под командой полковника югословенской королевской гвардии Михайловича они в горах Сербии первыми, ещё весной 1941 года, до нападения фашистской Германии на Советский Союз, дали вооружённый отпор гитлеровским оккупантам. В первые месяцы сопротивления четы, укомплектованные кадровыми офицерами и бойцами, часто действовали совместно с партизанскими отрядами Броза Тито. Таким именно образом освободили тогда, пусть на время, Горный Милановац. Но разрыв был неминуем. Коминтерновец Тито и помыслить не мог о том, что после войны Югославия останется королевством. А югословенское правительство, осевшее в Великобритании, назначило Михайловича военным министром и произвело его в генералы. Ну, разве мог «маршал» Тито ощущать себя на равных с этим генералом, даже если именно его, Михайловича, ещё осенью 41-го московское радио именовало как руководителя партизанского сопротивления в Югославии?
Трагедия Драже (его полное имя Драголюб) Михайловича, убитого в 1946 году в белградском коммунистическом застенке, ещё неизвестна в России. В полном своём объёме она не осмыслена пока и в Сербии, хотя старые четнические песни, прославляющие «чичу (дядю) Дражу», свободно звучат сегодня в городских и сельских кафанах, и, кажется, ни одна сербская свадьба не обходится без куплетов гимна-марша «»Спремте се, спремте се (готовьтесь к бою), четници, силна че борба да буде…»
Михайловича я бы назвал сербским Гамлетом. Он был, подобно горному кристаллу, редким примером воина интеллектуального склада. Осознавал себя настоящим родолюбом, то есть патриотом Сербии, которая в XIV веке на кровавом Косовом поле почти полностью полегла, чтобы в начале XIX-го, будто феникс, отрясти с себя пепел и порвать оковы пятивекового османского гнёта. К тому же Михайлович был ещё и убеждённым русофилом. И в этом смысле походил на героя романа недавно умершего Валентина Пикуля «Честь имею». Михайлович глубоко ценил русскую историю, знал нашу культуру, писателей, историков. Очевидно, он до самого конца надеялся, что новая, далеко не во всём ему понятная Россия не оставит четников в беде, не даст их на расправу Брозу. Но во время войны постоянной связи с Советами у него и поначалу не было, а потом и совсем никакой не стало. А связь с англичанами, которые до 43 года славили Равну Гору как гнездо сербских орлов, вдруг прервалась. Потому что Черчилль в своей балканской игре сделал теперь ставку на Тито, после чего английские самолёты перестали сбрасывать четникам и те старые ружья, которыми буры пользовались ещё в девятнадцатом веке.
Гамлетизм генерала Михайловича проявился в том, что он не обладал железной волей коминтерновского вождя. Гитлеровские репрессии в Сербии, во время которых нацисты за одного убитого немца стали расстреливать сотню невинных обывателей, в том числе школьников и их учителей, потрясли Михайловича своей свирепостью. И он после этого склонялся всё чаще к тактике пассивного отпора, чтобы обезопасить сельские области Сербии от жестоких карательных экспедиций. Кроме того, он оказался не в состоянии обуздывать своих слишком горячих воевод, которые считали, что главные противники – не столько немцы, сколько «банда партизана».
Сейчас не найдешь, пожалуй, ни одной сербской газеты, которая бы выходила без материала о Михайловиче. Трудно сказать, станет ли он для своей страны новым национальным героем. Но ясно, что он стал символом перенесенных народом страданий. Очевидно, что в принципе невозможен некий культ Михайловича, который бы стал сопоставим с культом «бронзового» Броза. Бронзового и золотого, потому что Югославия наших дней немало озадачена поиском места, где властодержец Тито «закопал» свои личные сокровища, которые поднаграбил на своём долгом пути к мавзолейному саркофагу.
Что касается Дражи, от него не осталось и следа. Только десять-двадцать фотографий времён войны и пребывания в узилище. На них мы видим худощавого, даже измождённого бородача в округлых очках, с неизменной печалью-тугой в глазах, будто их переполняет неразрешимое вопрошание: «Быть или не быть Югославии? Быть или не быть Сербии?»
Кроме заросших травой траншейных ходов на дикой, безлюдной Равной Горе от четнических укреплений и аэродрома тоже ничего не осталось. Штаб Дражи – обычную сельскую избу-бревнару, сожгли немцы. А остальные следы здешнего пребывания «первоборцев-равногорцев» уничтожили «первоборцы-партизаны». Гремуч яд гражданской распри: между теми, кто веровали в Бога, в Царя или Короля, и теми, кто веровали в грядущее неминуемое счастье народов всех стран. Та вера не сделала счастливыми ни первых, ни вторых. Правду говорит большой сербский писатель Добрица Чосич, бывший красный партизан, – устами своего героя в романе «Грешник»: «Самые страшные люди те, что хотят всех осчастливить».
Ванька провёл нас с Зораном к пещере у подножия Равной Горы. У входа в неё, под большим скальным карнизом, пусто и мрачновато и средь бела дня. Не дай Бог, сюда по асфальтированным трассам нагрянут однажды международные орды туристов. Сейчас тут ещё журчит-бормочет вытекающая из мглы тихая вода ручья, над которой более полувека назад пелось о нелёгком воинском житье в горах:
Ние лако четник бити,
Из камена воду пити.
Заглянули мы и в одинокий, подрагивающий в порывах ветра домишко престарелой крестьянки, Ванькиной знакомой. Она как-то сразу заговорила о войне. В её сбивчивом негромком голосе, похоже, перемешивались обрывки из «старой» войны и той, что началась в Югославии в середине нынешнего года. И я никак не мог сразу сообразить, кого же из поминаемых ею людей убили давно, а кого – вчера.
Ведь вчера и позавчера я сам видел ребят, которых завтра могут убить. В сербских городах, у стен казарм в эти дни толпятся резервисты. По ночам в кафанах резервисты поют песни, обнимаются напоследок со своими жёнами. И опять слышится старый «Марш на Дрину». Или совсем новая песня – «Сербия зовёт», которая вдруг так задела меня своим припевом, исполняемым на два голоса, мужским и женским: «А если я не вернусь, зажги в церкви свечу, где мы у алтаря стояли…»
Поначалу объявлялось, что резервистов собирают на день-два, для регистрации. Но вчера в Вальеве председатель исполнительного словета общинской скупщины сказал, что вечером группа резервистов будет отправлена на север – туда, где жители сербских городов и сёл, находящихся на территории Хорватии, с оружием в руках защищают своё право оставаться сербами и православными. И право читать свои книги, напечатанные кириллицей, а не латиницей. И право вместе со своими землями вернуться в состав Сербии.
Не дай Бог, если просвещённая «мировая общественность» во имя своего «нового мирового порядка» пренебрежёт волей этих людей, такой же естественно-природной как земля, воздух, любовь.
– И не дай Бог, – сказал я Ваньке уже вечером, когда прямиком с Равной Горы заглянули в его городской дом, – если новейшая славянская вражда на Балканах, столкновение между сербами и хорватами, перекинется и в Россию, и вспыхнут споры между обкорнанной Россией и теми, кто во всех своих неудачах винит её, отождествляет тысячелетнюю русскую державу с атеистической «империей зла».
От последних дней славянства мы в своей беседе перенеслись к его первым преданиям и хроникам, ко временам средневековой давности, когда славяне, преодолевая великие искушения, начинали прокладывать в своих землях начальные шаги к чаемому единству. Тут Ванька вспомнил о знаменитом острове Рюген на Балтике, с его славянским языческим святилищем, погибшим от нашествия датчан. И тут же показал целые папки с листами рисованного по его сценарию исторического комикса для еженедельника «Дечье новине»…
Горстке храбрецов из Арконы, столицы Рюгена, во главе с юным витязем Милошем и его сестрой Даницей, удаётся, вырвавшись с острова, пробиться в земли лужицких сербов, в город Згорелец, где они успешно участвуют в турнире с германскими рыцарями. Немного позже в польском городке Милош знакомится с молодым русским богатырём Ильёй из далёкого Мурома, и они вместе отправляются на подмогу новгород-северскому князю Игорю, задумавшему поход на Дон – против ханов Кончака и Гзы… «Подожди-ка, друже,– уже собираюсь я охладить Ваньку, – а не слишком ли ты увлекаешься, собирая в один сюжет лиц вымышленных и исторических?.. Аркона, Милош, Илья Муромец, князь Игорь, а вот уже, вижу, и летописец Нестор у тебя заговорил?» Но нет, не стоит мне с наскоку покушаться на замысел Понявича, пусть дерзкий, пусть отдающий авантюрой. Разве все названные им люди не могли оказаться современниками? Разве не простирали они своих юношеских мечтаний во все пределы тогдашнего молодого мира?.. И разве не таких именно героев и в наши дни ищут мальчишки и девчонки, уставшие от чесотки компьютерных побоищ?..
В другом своём замысле-сценарии Ванька намерен рассказать о сербском княжиче Растко, будущем святителе Савве, и о русском монахе, который увлекает юношу в рискованный, но душеспасительный путь на полуостров Афон… А ещё в одном сюжете встретятся герои Косовской битвы и вышедший на эту же сечу русский богатырь Ослябя, который прибыл на Балканы прямиком из Москвы…
Пока мы с Ванькой беседуем, его жена и трое детей сидят в соседней комнате и смотрят вечерний «Дневник»… В Осиеке опять миномётные обстрелы… Вуковар завален горами черепицы и кирпичного крошева… Горят дома в Окучанах… Официальный Будапешт заявляет, что утверждения о тайной переброске вооружения из Венгрии в Хорватию – клевента. .. Американские политики в эскалации воинских столкновений обвиняют Сербию… Хорват Стеян Месич, теперешний председатель правительства Югославии, утверждает, что в октябре Югославия прекратит существование как федерация… Хорваты взяли в плен сербского генерала… Но неизвестно, где его скрывают… Нет сведений и о том, где находятся два похищенных русских журналиста… Вообще не известно, живы ли они ещё.
Похоже, в этой стране сейчас никто не знает, что может случиться через день, через час.
– Понятно лишь одно, – говорит Ванька, – мы не в праве оставить сербов, которые испокон века живут в Хорватии, что бы о том ни заявляли из Вашингтона. Мы не можем их оставить, если даже Россия и впредь будет на наши просьбы отвечать общими миротворческими фразами.
– Ванька, – говорю ему, – это не Россия. Это те, кто и в России не любит Россию. Ты от них ожидаешь невозможного. Это те, что считают, что давно решили все национальные проблемы. У них такое мышление – «новое». А у нас с тобой – всё ещё «старое». Мы с тобой – листва с двух древних деревьев, а они считают, что все деревья посажены в 1917 году, и что все листья на них совершенно одинаковы.
Жена подозвала Ваньку к телефонной трубке… Он поговорил минуты три, а потом и сам начал звонить – по одному, по другому номеру, разыскивая кого-то.
– Что-то случилось?
– Да так, – хмуро ухмыльнулся Ванька. – Зовут в команду. До утра надо собрать двести резервистов.
Жена о чём-то тихо спросила его.
Его твёрдый ответ я расслышал:
– Сутра чу се вратити кучи.
«Куча» – по-русски дом.
«Литературная Россия»,
4 октября 1991 г.
РАДОЙКО И КОСАРА
Похоже, в Белграде я оказался первым литератором, прибывшим сюда из Москвы после известных августовских событий. Не мудрено, что то и дело приходилось слышать сострадательно-участливый вопрос:
– Ну как вы там пережили этот мятеж? Эту попытку переворота?
– Какой мятеж? Какой еще переворот? – удивлялся я. – У России за последние три века накопился достаточный опыт переворотов. Как правило, они осуществлялись самым малым числом людей, которым нечего было терять, и потому они почти всегда действовали успешно. А это? Очень уж странный «переворот». Как если бы однажды утром Брут со своими приятелями постучали в ворота виллы Юлия Цезаря и сказали бы они: «Послушай, Юлий, ты знаешь, что мы тебя страшно любим, хотим и дальше тебе верно служить и вовсе не намерены набрасываться на тебя с ножами в сенате, но умоляем: посиди-ка ты несколько дней под домашним арестом…»
По глазам моих собеседников я видел, что эта историческая параллель подтверждает правоту их собственных выводов о замысловатости как нашего «путча», так и бурного ему отпора.
Слышал я и восхищенные отзывы о Борисе Ельцине, в котором хотят видеть наконец-то народившегося настоящего русского вождя, имея в виду его высказывания по поводу межреспубликанских границ, которые в случае усугубления сепаратистских настроений в республиках необходимо пересмотреть в пользу России. Сербское население Югославии в поступке Ельцина разглядело как бы поддержку своего твердого намерения отстоять с оружием в руках права сербов, проживающих в Хорватии.
Но когда я заговорил о своем желании побывать в местах боёв, мои друзья возмущенно замахали руками:
– Перестань, это невозможно, особенно после того, как пропали два русских журналиста.
Невозможно так невозможно. Не настолько же я тщеславен, чтобы описывать потом, как бегал, согнувшись в три погибели, под пулями и как давали мне подержать в руках «Калашников». Тем более, что нарваться на неприятность можно среди бела дня и в мирном Белграде. Недавно был взрыв в здешнем ресторане «Русский царь», потом еще в одном, в «Ораче», потом в двух или трех кафанах. Сербия, как и Хорватия, недостаточно велика, чтобы у нее были настоящие тылы, в точном военном смысле последнего термина. Война слишком хорошо видна сегодня из любого сербского села.
Вот и отвезли меня в обычное сербское село (куда я, кстати, давно и безнадежно стремился попасть). Так и завязалось знакомство со старым Радойко, его женой Косарой и их небольшим семейством, детьми и внуками.
Семидесятилетний Радойко встретил нас у каменной стены коровника, в котором только что возился с народившимся ночью бычком. Затем от кухни подошла невысокая грузная Косара. А за ней появилась и Гордана – молодая хозяйка, жена Милосава, единственного сына Радойко и Косары, который с утра уехал с сыном и дочерью на тракторе собирать сливу в их плодовом саду («вочняк», он же «шливняк») за два километра от дома.
С этих секунд встречи у кирпичных ворот сельской усадьбы потекли для меня какие-то непередаваемо блаженные и одновременно тревожные часы и дни. Словно гостил в раю, где благоухают розы и чернобривцы, где синей кисеей переспелых слив застелена земля, где пегий теленок доверчивыми розовыми губами целует тебе руку, где старый петух-хрипун перед рассветом дерет глотку, как делал это и семь тысяч лет тому назад, находясь на службе у Адама и Евы. Но гостил я в раю, где всякий день и час заявляла о себе война.
Хозяева поместили меня в самой большой комнате (прямо зала!) нового дома, в котором живут молодые. И почти тут же позвали в прохладную столовую, чтобы угостить, как принято при встрече, стаканом холодной воды и ложечкой варенья. И тут же предложили с дороги чашку горького кофе и рюмку домашней сливовицы, чище и вкуснее которой ничего не бывает. И уже был включен телевизор, и почти тут же, после нескольких рекламных сюжетов, камера выхватила из мирного пейзажа горящий сельский дом с красночерепичной продырявленной кровлей.
Радойко кашлянул, а Косара вздохнула глубоко и покачала головой, как, наверное, совершенно похоже на нее делают все старые крестьянки во всех землях. И запричитала почти про себя: «Бога ми…»
Впрочем, Косара почти тут же и ушла – в старый дом, готовить обед. Прихватив под мышку несколько увесистых белградских газет, встал из-за стола и Радойко. Взял он с собой и маленький транзистор, для которого из города привезены новые батарейки. Ему нужно перегнать овец с приусадебной луговинки метров за триста от дома, где овцы щиплют не только траву, но и листья акации.
После обеда Гордана села за руль и повезла нас на «Ладе» к сливовому саду. К сожалению, жаловалась она по дороге, тридцать земельных наделов («парцелл») которыми владеет их семья, лежат врассыпную по окрестностям села, а это лишняя трата времени и горючего, когда они собирают урожай или вывозят на поля удобрение.
Что же за наделы?
В каждом не меньше гектара. Кроме пшеницы и кукурузы, они выращивают на продажу в город и для своих нужд виноград, сливу, помидоры, сладкий перец, фасоль, картофель, капусту, арбузы и дыни, груши, яблоки, купину (наша ежевика). Есть у них и свое клеверище, и сенокосные луга. Про овечьи выгоны уже говорилось.
А вот и знаменитый сербский «шливняк» – ровные ряды деревьев, черная земля под которыми щедро, как на картинах импрессионистов, голубеет осыпавшимися плодами. «Шливняк» воспет в десятках песен, старых и новых, а слива – не только символ крестьянского благополучия, но и одна из важных статей семейного и государственного дохода.
В пестрой тени деревьев Милосав грузил на тракторную тележку разноцветные пластмассовые ящики, доверху заполненные плодами, а Драган и Светлана, стоя на лесенках, общипывали верхние ветви, до которых с земли не дотянуться. Нашлась и для меня пустая тара. Они работают в этой парцелле уже несколько дней, и еще столько же понадобится, чтобы снять урожай со всех деревьев. Каждый вечер Милосав везет полную тележку к центру села, где трактора выстраиваются в очередь к весам, и тут же ящики загружаются в рефрижератор, прибывший из Белграда.
Вот и на исходе жаркий сентябрьский день. Повеяло прохладой из оврагов, бальзамическим настоем луговых трав. Молодой месяц серебрится над селом. Первые цикады пробуют голоса, первые звезды жмурятся, как угли в печи.
Мы сидим с Радойко на открытой веранде старого дома. Гордана ушла доить коров. Косара хлопочет на кухне и снова причитает: «Бога ми…» Это – по поводу Драгана и Светланы. Вот ведь, опять с приятелями и подружками улизнули из дому, даже не поужинав, и теперь объявятся только под утро. А Драгана через месяц надо в армию провожать. Сидел бы дома, со своими, хоть бы нагляделись на него вволю… Э-э, война, война! Политики ссорятся, а ты за все отвечай. При всякой войне с тебя будут драть три шкуры.
– Почему будут? И теперь дерут, – уточняет немногословный Радойко. – Килограмм пшеницы покупают у нас за три динара, а литр бензина продают – за тридцать.
Он говорит это без всякого возмущения, только коротко остриженную седую голову упрямо наклоняет вперед. За семьдесят лет уже привык кормить целую ораву неизвестного ему городского народа почти бесплатно… А кукуруза та же: всего пять динаров за килограмм.
– А молоко? – вздыхает Косара. – Мы сдаем за пять динаров литр, а в городе тот же литр стоит – восемьдесят. За один литр солярки для трактора отдай пять литров молока. Ну что это?
– Так и у нас, – говорю, – в России. Только бензин еще не вздорожал. А в остальном – так и у нас…
И вдруг спазма сжимает мне горло:
– Нет, я не то сказал. У нас крестьянин живет совсем не так, как вы… Можете мне не поверить, но вы, сравнительно с русским крестьянином, живете как в раю. Я вижу: вы – не самые богатые. У вас всего три коровы, бычок, две свиноматки, десяток поросят, овцы, куры и один небольшой трактор. А в деревне, где сейчас моя жена с внучкой (за двести километров от Москвы), на шестьдесят крестьянских дворов нет ни одной коровы! Ни одной овцы. Нет, вру, одна корова нынче летом появилась – на шестьдесят домов. И мы все лето молоко возим в деревню из Москвы. И мясо, и хлеб, и масло, и крупы, потому что и деревне нет магазина… Ваше село – живое, а наше почти при смерти. Тридцать наделов земли! Да мне никто не поверит! У нас – только приусадебный участок, двадцать – тридцать соток.
– Зашто? – удивляется Радойко и моргает покрасневшими веками.
– Я не знаю, Радойко, за что. Но только вы должны знать, что в России была третья мировая война, тихая, никому не известная. Война против села. И если наши правители не отдадут наконец землю старым крестьянам и их детям, живущим в городах, и всем, кто хочет на земле честно трудиться, а не продавать ее за доллары всяким жуликам, то Россия через два-три года оживет. А если не отдадут, то мы долго не выдержим. Или возьмем землю сами – с оружием в руках, или погибнем.
– Но как будут работать на земле люди, если они уже все забыли? – недоумевает старик.
– Ничего, вспомнят. Научатся. Голод заставит, все вспомнят. Природа научит. Старики научат. К вам приедут, научите.
Мне кажется, Косара тоже почти все разобрала в моем сербско-русском описании. Она замерла на лавке, в недоумении разводит руками:
– А мы почти ничего не покупаем в магазине из еды: говядина, свинина, баранина, куры, молоко, каймак, брынза, овощи, мука пшеничная, мука кукурузная – все свое. И хлеб я только свой пеку.
– Так раньше было и у нас. И так должно быть.
– Да, – говорит Радойко. – Везде люди хотят работать на земле. И везде им мешают. И когда война, и когда нет войны.
Я знаю: он старый солдат. Во время войны был четником, хотя не любит распространяться об этом.
– Один раз я видел генерала Дражу Михайловича, – говорит старик. – Но издали. Он производил осмотр нашего отряда.
– Радойко, ну какой ты четник! – беспокоится Косара. – Ты в милиции служил.
– А как по-русски будет «врабац»? – вдруг спрашивает Радойко.
– Так и будет: воробей.
– А петео?
– Так и будет: петух, петел. Мы ведь славяне, и все у нас похоже: гавран – ворон, кукавица – кукушка, дивий вепр – кабан, зец – заяц, домачий зец – кролик, грлица – горлица, зной – пот…
– Точно. Все похоже. Косара, – просит он жену, – принеси нам вина. Да попием мало.
Так прошла почти полная неделя. Днем я уезжал работать в музей, за десять километров от села. А вечерами обязательно смотрели телевизионный «Дневник» или Радойко включал свой транзистор и слушали вести оттуда, где с оружием в руках добывают право жить на своей земле.
– Жалко, что вы не останетесь до 27 октября, – сказал мне однажды Драган, почти по-русски, потому что и он учил наш язык в школе. – Будут мои проводы в армию. Соберутся человек четыреста. Мы поставим большой шатер перед домом. Ну ничего, я пришлю вам кассету. У нас теперь принято снимать проводы видеокамерой.
– Спасибо, милый Драган, – ответил я. – Но ты мне еще пришли фотографию, когда вернешься домой после службы. И пусть на той фотографии будете и вы со Светланой, и твои отец и мать, и Радойко, и Косара.
Село Горнья Трнава
Литературная Россия. 11.10.91
АНДРЕЙ
– А знаешь ли ты, фигура, в какой гостинице живёшь? – спрашивает Андрей по телефону.
– «Топлице». Это совсем рядом с университетом. На улице 7 июля…
– Так вот, улица твоя раньше называлась Краля Петра. А гостиница – «Хотел «Роял». И когда в Белграде был Конгресс писателей и журналистов русского зарубежья, в двадцать восьмом году, то в этом самом «Рояле» жили Мережковский и Гиппиус. А также, думаю, Борис Зайцев, Куприн, Шмелёв, Немирович-Данченко… Ну что, пойдём на кладбище?
Через полчаса мы встречаемся с ним под сводами собора Святого евангелиста Марка.
– Вот здесь теперь упокоился наш патриарх Герман, – шепчет Андрей, кивком показывая на беломраморное надгробие у северной стены, усыпанное свежими цветами. Он покупает несколько восковых свечей и уже на улице заканчивает рассказ о недавно почившем патриархе Германе, который очень был всегда добр к русским, живущим в Сербии, в Белграде, за что был ими любим и почитаем… – Сейчас пишу о нём воспоминания и, как будут готовы, перешлю вам. Может, опубликуете в России… А вот здесь и наш папа лежит, отец Виталий Тарасьев.
Ново Гробле: памятник двум миллионам русских воинов, погибших в первую мировую войну (фото с сайта www.moselprof.ru)
Мы стоим теперь у ограды маленькой русской церкви. Она почти прижалась к алтарю громадного сербского собора, и это трогательное соседство воспринимается как покровительство святосавской Церкви русским православным изгнанникам двадцатого века, которые вторую свою родину обрели в югославской земле.
– А хочешь, мы пройдём пешком до кладбища, и я покажу тебе дом, где вырос?
Знаю, Андрею трудно помногу ходить пешком – больная нога беспокоит. Но и вижу: седовласый белградский профессор, словно ребенок, радуется возможности показать свой любимый город. Это ведь тот самый пеший маршрут, по которому его родители каждое утро ходили от дома до церкви и обратно.
Он то и дело останавливается. Вот тут жил его школьный приятель. А вот сюда в сорок первом угодила бомба. А вот чудом уцелевший старый белградский дворик, под стать старомосковским, с деревьями и деревянными сараюшками. А здесь – эх, жалость! – застройщики снесли уже целый квартал. Их все меньше, старых белградских домоз, трёх-, пятиэтажных, с потемневшими от угольного чада стенами, — свидетелей немецких и американских бомбардировок («Представляешь себе, в 44-м союзнички бомбили нас прямо на Пасху, в светлое Христово Воскресение… до сих пор это не укладывается в голове. А Загреб, где сидело усташское фашистское правительство, они не бомбили ни разу…»).
– Профессоре, како сте? – кто-то радостно окликает Андрея на перекрёстке, и они троекратно целуются. Я уже не удивляюсь тому, что его тут знают, кажется, все. И даже не очень удивился, когда в Горнем Милановце одна сотрудника издательства, которую похвалил за отличное русское произношение, сказала: «А у нас преподаватель русского в университете был чудесный». – «Уж не Андрей ли Тарасьев?» – «Тарасьев! А вы его знаете?» – «Ну как же, мой кум». – А вот здесь, куме, мы все и жили, – Андрей показывает на угловой дом.
По дощатому шаткому настилу, перекинутому через свежую водопроводную траншею, пробираемся к открытой двери подъезда. Сквозь окно лестничной клетки на площадку первого этажа падает мягкий дымчатый свет – и в нём уже неразличимы милые Андрею тени – отца, матери, деда, белогвардейского генерала, которому после войны суждено было вернуться в Россию, но под конвоем, и умереть в мордовском лагере («Дед» – так и назвал Андрей свои воспоминания о генерале Борисе Ниловиче Литвинове-Массальском; московский журнал «Слово» собирается опубликовать их в одном из ближайших номеров).
– Дедушка был стар, немощен, с больным сердцем, и русские солдаты и офицеры, что у нас жили, когда освободили Белград, его просто обожали. А все ж таки и он попал под модную тогда статью: «за сотрудничество с гитлеровским режимом». И мы почти сорок лет не знали, где умер, когда…
– А вот сюда я за молочком бегал, – показывает на большой, чуть не на целый квартал дом. – Тут немцы молочко выдавали для детишек. Вот тебе и сотрудничество с гитлеровским режимом.
И коротко, легко смеётся. Удивительная душа у Андрея, не устаю ею любоваться. Вот образец веселого православного человека, может быть, из времён грядущих к нам забежавшего. Причин для скорби, угнетенности, грусти у него, поверьте, не меньше, чем у любого из нас. Но он неистощимо выплескивает из себя радость и даже к кладбищу, стирая со лба градины пота, поспешает в это погожее сентябрьское утро радостен и бодр. В Белградском университете, на кафедре славистики, он обучает сербских студентов русскому языку, а приезжих русских –сербскому. Русское и сербское начало сплавились в его душе в цельный слиток — попробуй отделить одно от другого, ничего не получится!
Так же, как на знаменитом Новом Гробле (аналог нашего Новодевичьего кладбища) невозможно разграничить землю между сербскими и русскими памятниками. Мы идём по Аллее Великанов, Андрей показывает памятники Николе Пашичу, легендарному воеводе Живоину Мишичу. Но тут же, рядом с могилой Мишича, скромный крест над беломраморным надгробьем, на котором – ни фамилии, ни дат рождения и смерти, а только одно имя: «МИХАИЛЪ».
Могила генерала Михаила Алексеева (Фото с сайта www.moselprof.ru)
– Так завещал похоронить себя генерал Михаил Алексеев.
И снова – имена великих сербов: в тени старых деревьев спит поэт-романтик Джура Якшич; не нашёл бы я без Андрея и могилу знаменитого драматурга Бранислава Нушича, и последнее пристанище поэта Бранко Мильковича, который, уйдя из жизни в неполные двадцать семь лет, яркой кометой прочертил небо современной сербской поэзии.
Но, увы, и кладбищенский покой не оберегает великие имена от диктата государственной помпезности. Официальным холодком повеяло на нас от геометрически правильных общих захоронений послевоенного времени. Не думаю, что таким образом точно исполнялась последняя воля классиков сербской литературы сего века Милоша Црнянского, Васко Попа, нобелевца Иво Андрича, Бранко Чопича (прах двух последних лежит под идеально отполированными гранитными полуовалами, а рядом, на той же линии, – ещё несколько полуовалов, пока без надписей, в ожидании новых имён).
…А вот и крылатый ангел, стерегущий останки русских воинов, что погибли на фронтах Первой Мировой войны, в том числе и тут, на Балканах, погибли, когда сражались, плечом к плечу с братьями-сербами в окопах Салоникского фронта. И радостно было нам увидеть у входа в памятник-часовню венок из свежих ещё цветов, возложенный от имени нашего посольства в Белграде. Меняются времена. Раньше-то советские дипломаты стороной обходили «белоэмигрантский» обелиск, на котором начертано имя императора Николая II.
Неутомимый Андрей подводит к стенам Иверской часовни. Она построена тут русскими людьми ещё в 1931 году, и за её алтарём начинаются ряды с могилами тех, кого буря унесла из пределов России после революции… Офицеры, генералы, священники, учёные, педагоги, врачи, артисты, их жены, дети. Иные женились на сербках, иные вышли замуж за сербов. Потому и здесь, на собственно «русском кладбище», нередко читаешь сербские имена.
Вот где я пожалел, что не обзавелся диктофоном, а всё ещё по старинке пытаюсь обходиться одним блокнотом. Я совершенно не поспевал за Андреем, потому что почти каждый памятник для него – это целая главка из воспоминаний о жизни русского Белграда. Более того, слушая сейчас Андрея, я догадывался с грустью, что и сам он не поспевает эти свои рассказы заносить на бумагу, и вряд ли когда с достаточной полнотой поспеет.
– Прости, Андрей, – взмолился я, наконец, – но устал. Всё уже плывёт перед глазами. Больше не могу записывать…
– Ах, ты, фигура! – улыбнулся он. – А мы как раз теперь и отдохнём. Мы как раз и пришли… Вот мама моя лежит. Сейчас две свечечки зажжём. Настоящие, из воска. И цветы положим.
На простом, без фотографии, кресте значилось только: «Людмила Тарасьева». И если прочитает кто посторонний, откуда он догадается, что тут лежит жена священника и мать священника, дочь репрессированного генерала. Поймёт лишь по имени, что лежит русская.
– А знаешь, русские имена у сербов очень распространены, – говорит Андрей. – Есть Татьяны, Надежды, Светланы, да много, много…
Не знаю, кем он всё-таки себя больше чувствует – русским, сербом? Или представителем того будущего Всеславянства, которое когда-нибудь непременно осуществится на земле, как бы ни противоречили этой надежде нынешние кровавые распри внутри славянского мира.
Я тут недавно – говорю Андрею,– одному своему приятелю-сербу, пересказал малоизвестное пока пророчество Нострадамуса, касающееся славян. Так вот, Нострадамус говорит, что к 2010 году в мире возродится идея всеславянского единства. И что идея эта возобладает не только у восточных славян – русских, украинцев, белорусов, но и охватит все славянские страны. В том числе и часть Польши…
При последнем уточнении Андрей не удержался, хохотнул.
И что это новое объединение народов не только будет процветать в течение большого космического цикла, но и окажет преображающее воздействие на всё человечество… Так, гляжу, на следующий день приятель мой уже листает толстый том Нострадамуса, отыскивает то пророчество… Оно, конечно, Нострадамус для нас – не самый большой пророк, тем более что идею Всеславянства первыми обнародовали задолго до него наши святые равноапостольные Кирилл и Мефодий – самим фактом создания всеславянского письменного языка. И всё же, всё же, хорош и Нострадамус.
Гляжу, мой Андрей взгрустнул. Православная душа не очень-то поддаётся на обещания грядущего счастья народов, исходят ли они от Маркса или Нострадамуса. И не очень она поддаётся на обещания первенства, политического или какого угодно ещё, только для своего народа, своего языка. «В доме Отца Моего обителей много».
С кладбища возвращались мы в город живых умиротворённые, как после бани духовной.
А на другой день, когда в советской «амбасаде» беседовал с нашим послом в Югославии Вадимом Петровичем Логиновым, зашёл и тут разговор о «русском кладбище».
– Конечно, в Белграде нынче, – заметил он, – никто это кладбище не знает лучше, чем Тарасьевы, отец Василий и Андрей. И без их помощи издание «Некрополя» не вытянуть. И без помощи двух Обществ дружбы – сербско-русского и русско-сербского. А мы, пока тут живём и работаем, всегда поможем. А то и подскажем что-нибудь – не только касательно Белграда.
В тот вечер, возвращаясь пешком в гостиницу, я проходил мимо безмолвного пока здания филологического факультета и, как всегда, поднял глаза на угловые окна на первом этаже. За стёклами было темно. Там — рабочий кабинет Андрея, где он весело и необидно отчитывает своих студентов и студенток, аспирантов и аспиранток, а также умудряется почти каждый день принимать неожиданных гостей из России, потому что его старые русские друзья всех направляют именно к нему. Я до сих пор храню набросанный от руки план-чертёж центра Белграда, которым в канун первого путешествия снабдил меня академик Никита Ильич Толстой. И на том рисунке значится: «Студентски трг, 3. Филолошки факултет. Андрей Тарасьев».
Когда пришёл по адресу, передо мной оказался полноватый, седогривый и седобородый человек с чуть вытаращенными, необыкновенно живыми глазами.
– Так мы же с вами… так мы же с тобой знакомы! Так мы же – кумовья!
И рассмеялись оба, и обнялись, вспомнив, что точно, несколько лет назад в одном московском доме тайно участвовали в крестинах русского младенца: я приглашал священника, Андрей был крестным. И для тайности, конечно, не обменялись тогда ни телефонами, ни адресами.
– Здравствуй, куме! Тайное стало явным.
Литературная Россия
18 октября 1991 г.
АНДРЕЙ
(Продолжение)
И вот мы сидим с ним в моём гостиничном номере. Но уже не в «Топлице», откуда он меня вытащил однажды для первого знакомства с русским Белградом. А в «Славии», на улице Святого Саввы. И на дворе – не 1992 год, а – шуточное ли дело! – 2015-й.
Накануне, перед вылетом из Москвы я отправил ему по Интернету самое краткое письмо с названием отеля, в котором мне обещали зарезервировать номер. На всякий случай, записал в блокнотик, рядом с ещё несколькими белградскими телефонами, и его домашний номер. Потому что надежда на услугу Интернета была невелика: на два или три моих письма, отправленные ему в течение последнего года, Андрей не отвечал. Поменял электронный адрес? Не в ладах уже со слишком хрупкой для таких, как мы, персон техникой? Или часто болеет? Или обижен тем, что я до сих пор не отправил ему, кстати, в надежде на более скорую встречу, свою последнюю книгу? Что зря догадки строить? В нашем-то возрасте у кого не происходит неизбежное сужение круга самых насущных житейских общений?
Прибыв заполночь из белградского аэропорта в «Славию», я, к огорчению своему вдруг обнаружил, что блокнотик-то этот свой с избранными телефонами так впопыхах и оставил по рассеянности, – может быть, совсем рядом с упакованными для поездки вещами.
Но каким же лёгким оказалось пробуждение, когда утром, в первую же его минуту услышал из телефонной трубки:
– Эй, куманё-ок!.. Что же эта твоя «Славия» всё занята да занята? Уже полчаса не могу пробиться… Ну, здраво, кумэ!
… За большим зашторенным и плотно замкнутым окном – сухой жар июльского вечера. До чего же раскаляется Белград к середине лета! Утром, когда условились о встрече, Андрей пошутил, что приехать сможет «только на ночь глядя», часам к девяти. Знакомый врач-кардиолог категорически запрещает ему устраивать дневные вылазки в город.
И вот, в первые же минуты встречи мы наскоро и небрежно, чтобы не слишком задерживаться на неизбежной теме, хвастаемся своими хворями.
– Зато у меня тут будешь блаженствовать. Кондиционер трудится круглые сутки. Да так бесшумно, что даже не соображу, где находится… Или, если хочешь, поднимемся на крышу, там кафе, ветерок с Дуная, закажу чего-нибудь жаропонижающего…
– Нет, куманёк, у тебя тут лучше. И обойдёмся без всякой скатерти-самобранки… а этот ветерок… он если и расшевелится, то совсем ненадолго, и то лишь часам к пяти утра.
Из соседнего номера заглядывает к нам мой спутник по этой поездке, хорошо известный в Сербии славист из Минска Иван Чарота. Но, вижу, их и знакомить не надо. Потому что кто же из славистов мира не знает Андрея Тарасьева? Найдётся ли из них такой, кто бы ни разу в жизни не внимал чудесным рассказам этого, полагаю, на сей день самого старого из русских обитателей сербской столицы? Его голос, со всегдашней мягкой хрипотцой, звучит и для нас в этот вечер неутомимо. Какая радость – просидеть три часа как единую минуту, почти не открывая рта, в благодарном и ненасытимом внимании ему. Одно лишь порывами огорчает меня донельзя: «Ну, как же не догадался привезти с собой старый диктофон с парой чистых кассет? Ведь и он лежал у меня на столе перед сборами на самом виду – только руку протяни!»
Андрей Тарасьев, родившийся в Белграде в 1933-м году, ещё при живом короле-рыцаре Александре Карагеоргиевиче, выросший в семье русского священника, уже в детстве своём и отрочестве напрямую соприкоснулся с болью людей, в большинстве своём так и оставшихся навсегда без родины, без России. Но людей, осознанно и до конца понесших крест веры и изгнанничества.
– … Вы-то вряд ли запомнили что-то про «клику Тито-Ранковича», но 1948-й год в титовской Югославии стал по-настоящему роковым – и для всех сербов, и для русских беженцев, – продолжает Андрей свой сказ.– Тогда вдруг всплыло наружу, что Тито тайно от Москвы заручился громадной финансовой, политической и военной поддержкой со стороны Америки. Измена партизанского маршала Сталинскому блоку вызвала немедленную реакцию – Резолюции Информбюро Коминтерна. И по Югославии прокатились волны репрессий – антисталинских чисток. Десятки тысяч сербов, в первую очередь коммунистов, верных Кремлю, были отправлены в концлагерь на остров Голы Оток. Одновременно и все русские из эмигрантских семей, продолжавшие жить здесь, попали в списки подозреваемых и преследуемых… 29 ноября 1949 годя, сидя вечером с родителями в нашем доме, мы вдруг слышим по радио сообщение: в Сараеве начался процесс над десятью русскими белогвардейцами, советскими шпионами! Зазвучали имена, в том числе двух всем нам хорошо известных священников. Десятым из обвиняемых был назван «поп» Владислав Неклюдов, который якобы не посмел явиться пред лицом народного суда и накануне покончил с собой в камере. Мы все замерли от горя, слушая такую подлую ложь. Разве можно было поверить в самоубийство нашего дорогого батюшки отца Владислава, до войны, всю войну и после войны служившего в нашем маленьком русском храме в Белграде, вместе с моим отцом, другими священниками?.. И вот мой отец поднимается из-за стола, надевает епитрахиль, раздувает кадило, и мы все помогаем ему отслужить перед домашними иконами панихиду «на исход души убиенного» протоиерея Владислава.
Андрей открывает папку и вручает нам в подарок по своей книге «4 духовника». Она недавно издана в Белграде, по благословению Патриарха Сербского Иринея.
– Одним из моих духовников, о которых в этой книжке вспоминаю, как раз и был отец Владислав, – объясняет Андрей. – Мы в своей семье, да и все русские прихожане Белграда так никогда и не приняли официальную версию властей о самоубийстве батюшки. И наша общая уверенность только подтвердилась, когда после сараевского судилища вдове священномученика матушке Варваре вернули часть его вещей, в том числе домашнюю Библию отца Владислава. Когда стали её листать, на страницах книги «Иов» нашли строки, подчёркнутые на полях ногтем (значит, и карандашом не мог он в камере пользоваться): «… скрежещет на меня зубами своими… неприятель мой острит на меня глаза свои… разинули на меня пасть свою… ругаясь бьют меня по щекам: все сговорились против меня. Предал меня Бог беззаконнику и в руки нечестивым бросил меня». А дальше ещё и такие слова: «… жив Бог, лишивший меня суда, и Вседержитель, огорчивший душу мою, но доколе дыхание мое во мне и дух Божий в ноздрех моих, не скажут уста мои неправды, и язык мой не произнесет лжи».
* * *
Уже вернувшись в Москву, я в подаренной накануне книге без труда нашёл и другие страницы, посвященные отцу Владиславу. Особенно поразил рассказ о том, как семилетнему Андрюше впервые довелось участвовать в торжестве Пасхальной заутрени. На следующий день я перечитал этот отрывок снова. А вскоре и ещё раз, – со всё прибывающей радостью. Она была не только оттого, что передо мной открывалось настоящее словесное художество. Но и оттого, что в этом рассказе не различить было и малой примеси той извинительной игры воображения, которая так любит приукрашивать события давнишние.
«Я хорошо помню основателя нашего прихода в Белграде, настоятеля и законоучителя протопресвитера о. Петра Беловидова (он принял мою первую детскую исповедь в 1939 году), мне посчастливилось слушать проповеди и просто высказывания в обычном разговоре таких великих духовников, как Святитель Авва Иустин (Попович), митрополит Анастасий, отец Иоанн Сокаль, отец Георгий Флоровский, отец Владимир Мошин, игумен Аверкий (Таушев), отец Борис Волобуев и др. Я был духовным сыном иеромонаха Антония (Бартошевича) в будущем архиепископа Женевского и Западно-Европейского, осмелюсь добавить – и близким другом. И все эти чудные люди, их духовные наставления не могли исчезнуть бесследно из моей души. Но должен сознаться, что одна служба отца Владислава сыграла огромную роль в становлении моей, тогда ещё детской веры. Речь идёт о моей первой заутрени в жизни (в 1940-ом году).
Но, сперва, небольшое объяснение. Дело в том, что в нашей жизни есть много случаев, когда мы механически произносим некоторые речевые «штампы», не вникая глубоко в их смысл… Тысячи и тысячи людей в дни Пасхи приветствуют друг друга радостным «Христос воскресе!» и ответным «Воистину воскресе!». И тут же продолжают или прерванный разговор, или пасхальное застолье… И вот мне кажется, что мало кто из нас в тот момент вникает в то, какой страшный, исключительно важный смысл кроется в этих, таких привычных словах «Воистину воскресе!» Это ведь не простое приветствие «С праздником!» или «С днем Ангела!» Это, по сути, резкая грань, пропасть, отделяющая людей верующих от людей не только неверующих, но тех, кто живёт не Церковью, а лишь традиционными обрядами. Недаром Апостол Павел говорит: «Аще бо веруем яко Иисус умре и воскресе…» (к Солун. 1, 4, 13-17)
Для меня переломным (в этом смысле) стал год 1940-ой! И связано всё именно с отцом Владиславом! В Великий пост мы с братом всегда говели вместе с нашими товарищами по русской начальной школе и гимназии в Белграде. У нас была своя школьная церковь на нижнем этаже Русского Дома, в котором размещались эти учебные заведения.
Чаще всего ученики говели на четвертой, крестопоклонной седмице. Ежедневно мы пропускали один из уроков и выстаивали великопостный третий час. В среду и пятницу наши законоучители служили Литургию преждеосвященных даров. Те, что поголосистее, пели трио «Да исправится…», в пятницу мы исповедовались, а в субботу причащались. Это были удивительные дни в нашей школьной жизни. Остальные службы Великого поста мы с братом не могли посещать из-за занятий (кроме воскресных). На Страстной седмице мама нас обычно водила в Великий четверг на «12 евангелий» и то в Иверскую часовню, где службы начинались раньше, а также и в Великую пятницу на вынос Плащаницы. Но, на утреню со «Страстями» (ее у нас служили в ночь с Великой пятницы на Великую субботу), а также и на Литургию в субботу и на Заутреню – нас не брали. Ходили мы только на торжественную пасхальную вечерню, которую всегда служил сам Митрополит Анастасий (тогда уже Первоиерарх нашей Заграничной Церкви). Но вот подошла Пасха 1940-го года.
Она была нам не в радость: наш приход и нашу семью постигло большое горе – 14/27 апреля, в Великую субботу, скончался основатель Белградского прихода, первый бессменный настоятель, один из основателей нашей гимназии, большой друг нашей семьи, любимый всеми протопресвитер о.Петр Беловидов.
Может быть, и это повлияло на наших родителей впервые взять нас на Заутреню. Мы слыхали, что они поминали отца Владислава, что-то говорили про погоду… но для нас это было неважно и непонятно… Главное – мы едем на Заутреню! И то – на такси! Поэтому мы безропотно исполняли все требования мамы: не мешали ей красить яйца, готовить тесто для куличей, убрали все свои вещи…
Никогда мне не забыть этой первой пасхальной ночи, этой первой Заутрени в моей жизни!
Часов в 11 вечера перед нашим домом появился наш хороший знакомый, добряк Никита, казак, редкой силы, работавший и грузчиком, и пильщиком дров, и носильщиком… Он усадил нас в красивый зеленый Форд, машину Нелюбова, владельца нескольких такси-машин, и мы за считанные минуты были на Ташмайдане, бывшем старом кладбище города Белграда. Встретила нас тысячная толпа… к нашей церкви просто не пробиться… к счастью, на условном месте нас уже ждет иподиакон Борис Критский, и, пользуясь авторитетом своего стихаря, проводит нас почти до самых западных дверей. Двери и окна нашей церкви распахнуты, и оттуда доносится конец Полунощницы «Не рыдай Мене Мати…» Почему-то мама и не пытается пробраться в храм. Вскоре всё стихает, все огни потушены. В народе замелькали огоньки свечек… По окнам становится заметно, что в алтаре вспыхнул свет и затем доносится первое, тихое «Воскресение Твое Христе Спасе» священнослужителей… вот засверкали огни в самой церкви и второе «Воскресение…» подхватывает хор и все молящиеся… Появляются крест, хоругви, хор, прислужники с рипидами и свечами, духовенство и сам митрополит Анастасий. Крестный ход идет вокруг храма и останавливается перед закрытыми западными дверями… после диаконского «Благослови, Владыко!» и тихого, но всем слышного «Слава Святей» Митрополита – «Аминь» всей многотысячной толпы и первое «Христос Воскресе!» священнослужителей… Вспыхивают разноцветными лампочками огромные буквы «Х» и «В» над дверями и два креста на куполе и колокольне. Звучит «Христос Воскресе!» по-гречески и по-сербски…
Служащие входят в храм, а к моему удивлению мама пробивается к отцу Владиславу, который с крестом и трехсвечником в одной руке и кадилом в другой, не входит в храм, а идет с двумя прислужниками куда-то вправо, в темноту, в толпу. Я узнаю лица певчих нашего знаменитого «левого» клироса, с которыми мы и пробиваемся дальше, вслед за отцом Владиславом, при пении всей толпы «Христос Воскресе!» Перед нами помост, ступенек 5-6… нам с мамой помогают взобраться туда, и я вижу на середине помоста аналой с праздничной иконой, подсвечники, а справа от отца Владислава – человек 50-60 певчих (тут не только «левый», а и певчие русских хоров в сербских храмах, где заутреня по традиции начинается лишь в 4 часа, так что они свободны). Рядом с батюшкой регент и псаломщик Филипп Загребельный и инспектриса нашей женской гимназии и псаломщица Варвара Николаевна Лучинская. Продолжается заутреня под открытым небом! Кругом весь пустырь (теперь здесь разбит парк) запружен тысячной толпой… мерцают в темноте ночи сотни и сотни свечей. Первая ектения, и начинается торжественный радостный канон Пасхи. Отец Владислав кадит не только с помоста, а спускается вниз, исчезает в толпе и только по эху громкого «Воистине Воскресе!» можно догадаться, где он сейчас.
Вот он снова перед нами. «Сей нареченный и святый день» поет он вместе с хором, затем поворачивается к молящимся и, в который уж раз, бросает туда, в темноту, в море свечей, свое громкое «Христос Воскресе!» Он настолько близко от нас, что я ясно вижу его лицо, его глаза. Он весь озарен этой радостной вестью, что Христос воскрес! И я чувствую, что мой ответ – не старая привычная реакция, а сознательный ответ этой пламенной вере, которая горит в глазах этого истового пастыря, и я, впервые, совсем иначе, отвечаю ему словами радостного убеждения, что наш Спаситель действительно восстал из мертвых. Я не могу удержаться от слез, и больше всхлипываю, чем произношу это, по-новому пережитое «Воистину Воскресе!» Мама с испугом пытается узнать, что у меня болит, почему я плачу, и я шепчу ей: «Ничего не болит. Христос Воскресе!» А на душе как-то по-новому радостно и весело. И слова Святаго Иоанна Златоустаго из знаменитой проповеди «Аще кто благочестив» звучат мне как-то по-другому. И не хочется поверить, что радость эта вообще может закончиться. Мы спускаемся в море огней и, защищая рукой нежный пламень наших свечей, пешком возвращаемся домой. И это чудо моей первой Пасхальной ночи, моей первой заутрени, и этого чувства полной, истинной уверенности, что Христос воистину воскрес, переданное вдохновенным отцом Владиславом, осталось в душе моей на всю жизнь и было несокрушимой опорой во все страшные минуты нашей жизни!»
И вот я спрашиваю себя, каждого, кто прочитает: разве это описание того, что однажды пережито было русским мальчиком в таинственную ночь праздника Воскресения Христова, не достойно быть включённым в хрестоматии воскресных школ, в антологии, в школьные учебники по родной литературе? Пусть не в полном объёме, а с некоторыми сокращениями? Я глубоко уверен: достойно! По крайней мере, не мог я не привести здесь этот отрывок целиком. Не мог, потому что вижу: без него весь рассказ о недавней, такой, к сожалению, короткой встрече с моим белградским другом оказался бы лишь бледной скорлупой, из которой изъято драгоценное ядро.
2015
МИША
Дрина текла мимо нас лениво, будто потягиваясь. Но на самом-то деле она, обманщица, шла раза в три-четыре быстрей нашего шага. Тончайшие слои расплавленного стекла наплывали друг на друга, выдавая нервную дрожь стремительных водоворотов. Глубина позволяла реке скрывать свою скорость. Будь здесь мели-перекаты, она бы клокотала без умолку. И вся была бы седой. А не такой вот таинственно-малахитовой.
– Ах, ты, Дрина, ах, лепотица! – не удержался я.
Миша никак не откликнулся на восторг гостя. Теперь, когда они покинули своё село в горах Боснии и переселились сюда, он видит Дрину каждый день и, наверняка, привык к её притворной глади.
– Будь другое время, мне бы на такой реке удочку… Целыми бы днями глаз от неё не отрывал… У вас тут есть рыбаки?..
– Ну, – Миша уклончиво мотает головой, и я снова догадываюсь, что надо бы угомониться со своими совсем неуместными восхищениями. Может быть, тут люди забросили рыбалку ещё с прошлого лета. С той поры, когда в её водах снова, как полвека назад, замелькали распухшие, в багровых и тёмно-фиолетовых пятнах, трупы.
Мы идём мимо моста и контрольно-пропускного пункта. Вчера ночью, когда вдвоём по этому вот автомобильному мосту перешли с сербского берега на боснийский, ни там, ни тут патрульные не остановили нас. Мишу все знают, просто кивнули ему: све у реду, всё, значит, в порядке.
Он устроил меня ночевать в доме своего дяди, рядом со зданием, где размещается воинский штаб. А сам ушёл к родителям. Почему не взял с собой? Может, это мера предосторожности? Ещё в Москве, в день знакомства, Миша пригласил тихим, будто не очень уверенным голосом, побывать у него на родине, если вскоре окажусь в Белграде.
Разбудили меня простуженные взвывы грузовика. Наверное, подсел аккумулятор, потому что мотор никак не схватывал и после нескольких громких чихов снова глох. Я подошёл к окну и разглядел сквозь туманную изморось человек восемь в зелёной форме бойцов Сербской Республики. Упёршись руками и плечами в кузов, они выталкивали машину с площадки перед крыльцом штаба.
А вскоре объявился Миша и сказал, что завтракать будем у его родителей. И вот теперь идём с ним по единственной в посёлке асфальтированной дороге над берегом Дрины, и он объясняет:
– Обрати внимание вон на тот дом на склоне горы. Оттуда два месяца назад дорогу обстреливали диверсанты. Ещё одну группу как-то ночью обнаружили прямо на мосту. Они подплыли на лодке и, видимо, намеревались взорвать мост.. Но патруль с нашей стороны их засёк и обстрелял… А вот в этом доме, видишь, тут поселился один русский доброволец. Он женился на нашей, на сербке. Сегодня ты с ним познакомишься.
Сойдя с асфальта, мы забираемся по крутому взгорку, пересекаем чей-то огород с почерневшими капустными бодыльями, с грудами коровьего назёма. Тропа выводит к побелённому двухэтажному дому, от стен которого веет угрюмой насторожённостью.
– А кто тут до вас жил?
– Мусульмане, – говорит он с какой-то извиняющейся полуулыбкой. – Мы не хотели поселяться в чужом доме. Но не на улице же оставаться на зиму… Мусульмане тоже не любят селиться в наших домах. Чужое есть чужое. Отец хочет поскорее вернуться в деревню.
Мишиного отца, моего, как тут же выясняется, одногодка, мы встречаем на лестнице. Он важно спускается по кафельным ступеням с карабином через плечо. Сейчас его очередь дежурить на заводе, где работает и сын. А мать моего друга ждёт нас в единственной отапливаемой комнатке на втором этаже.
В чреве металлической печки по-птичьи попискивают дрова. От плиты исходит жар и аромат кипящего варева. Похоже, хозяйка будет кормить нас мясной чорбой. После промозглого утренника и выстуженной лестничной клети тут, в тесноватом жилье тебя обволакивает древним крестьянским теплом, которое ценишь тем паче, что оно распространяется лишь на два-три метра от плиты, а ближе к окну – там копится почти уличная стылость.
Миша наливает в гранёные стакашки прозрачную сливовицу.
– Отец принёс из нашего села. Недавно ходил туда – это километров тридцать от берега. Впервые ходил после того, как они подожгли ночью село.
– И что там теперь?
– Дома стоят пустые. Что сожжено, что пограблено. Вся моя библиотека сгорела. У меня там было много русских книг, я годами их собирал – и когда бывал в СССР, и здесь: учебники, поэзия… Потом отец пошёл в лес и откопал посудину с этой вот сливовицей. Она в лесу пролежала больше года.
– А как зовётся ваше село?
– Брежаны. Много берёз растёт в округе, оттого так и назвали… У меня в библиотеке был Есенин. И был очень красивый однотомник Пушкина, юбилейный, я его купил в Москве… Они пришли 30 июня, ночью, около тысячи человек. А нас в селе оставалось восемьдесят три, в основном, женщины, дети, старики. Остальные разбежались раньше. Мы кинулись в лес, и вскоре отец отстал от нас – вернулся поглядеть на пожар. Мы о том, что он жив, узнали только через неделю…
Я представил себе, как Миша уходит из родного села, и на стволах берёз, напоминающих ему есенинскую Россию, скользят сполохи пожара. И он лихорадочно думает: то о своём отце, то о библиотеке, которая помогла ему так хорошо узнать русскую речь.
– Мы с приятелем шли впереди всех, в разведке, метрах в двухстах, с оружием, на случай, если они устроят засаду. Потом поджидали, когда остальные нагонят и снова уходили вперёд. И вот на каком-то переходе мне сообщают, что мать тоже исчезла…
Она сидит неподалёку от плиты, вяжет из серой пряжи шерстяной носок, и мне трудно сообразить, понимает ли она рассказ сына или погружена в какие-то свои сокровенные думы. Меня восхищает это почти всегдашнее благородное молчание старой сербской крестьянки, когда мужчины в её доме заняты беседой за трапезой.
– И вот получилось в ту ночь, что я чуть не застрелил свою маму, – ещё тише, чем обычно, говорит Миша. – Она заблудилась, потерялась от горя, а нам надо было продолжать путь, и я шёл с ручным пулемётом в руках. Под утро, когда стало чуть рассветать в горах, мы вышли к какому-то лугу, где как раз можно было ждать засаду. Я всматривался – в деревья, в кусты. И вот вижу: крадётся кто-то. Сердце у меня заколотилось. Приготовился стрелять. Но тут приятель меня одёрнул: «Ты что, ослеп? Да это ж мать твоя…»
Я смотрю на Зорицу – так зовут Мишину маму, – она всё так же занята спицами, но в её опущенных глазах чудится мне отсвет грустной улыбки.
– Мы уходили двадцать шесть часов, почти без отдыха, а другая группа, где оказался и отец, петляла в горах более двух суток. Всего в общине Сребреница они сожгли около тридцати сербских сёл. У нас в Брежанах погибло тогда двадцать шесть человек. Мы их останки, как только появилась возможность, свезли сюда и тут похоронили. Ты видел…
Да, сегодня утром он показал мне это новое маленькое кладбище на луговом берегу Дрины. Мы постояли возле свеженасыпанных холмиков, желтеющих глиной и песком, ещё не поросших травой. Всё, как и положено на сербском православном кладбище: огарки свечей, воткнутых в землю, кресты с именами и фамилиями односельчан, мужчин и женщин.
– Тела многих с трудом опознали. Кто был обезображен до неузнаваемости ударами ножей и секир, кого жгли на огне…
Пока Миша приглушённым голосом произносил свои поминальные слова, я невольно вспомнил ужасные кадры видеохроники, совсем недавно показанные в Белграде: камера медленно приближается к груде тел…. Женщина с задранным подолом юбки, глубокие ножевые раны на бёдрах и в области лона… Молодой, судя по сложению, человек, но совершенно седой. Камера, неверно подрагивая в руках оператора, склоняется над его головой и – о, Боже! – это не седина, это полчища червей копошатся в изуродованном черепе…
– А рубашки на крестах почему? Такой обычай? – спрашиваю у Миши.
– Да, у нас так принято хоронить мужчин – на крест надевают рубашку. А у женщин на крестах, видишь, платок или полотенце.
Что-то есть щемяще-трогательное в этом обряде боснийских сербов. Рубашки и платки выцвели под солнцем и дождями, и мне кажется, что каждый чёрствый сантиметр сиротской ткани напитан солёными слезами – родственников или самой земли?
– Рубашка у нас на свадьбах считается лучшим подарком для жениха, для сватов. И когда провожают парня в армию, дарят рубашку. И на крест надевают чистые, неношеные…
А вечером, как и предполагалось, к Мише зашли на огонёк его здешние русские приятели – Сергей из Харькова и Алёша из подмосковного Голутвина. Они мне, по виду, в сыновья годятся, но в этих краях уже старожилы. Неспешные свои и негромкие рассказы пересыпают именами боснийских городов и сёл, гор и речек, с которыми связана их здешняя добровольческая служба. Ну, и конечно же, то и дело звучат названия разных систем оружия. Нашего брата, известное дело, хлебом не корми, но дай ему щегольнуть безукоризненным знанием всевозможной боевой амуниции.
– Мне тут неделю назад в качестве трофея новенький «кольт» достался, – поглядывает на меня Алёша, ожидая, наверное, что я примусь выклянчивать у него эту трофейную штуку.
Но на что мне «макаровы» или «калаши», или ТТ, я и так неплохо экипирован: московская моя пишущая машинка выстреливает за час пять-шесть страниц текста…
* * *
Дрина
Река любая сразу мне мила:
в лесу, в ущелье или в степь ушла,
где лишь трава, песок и глина.
Но есть ещё на свете Дрина.
Холодная, струистый малахит.
Какая страсть в глуби её кипит?
Какие колобродят страхи?
На берегу – кресты,
а на крестах – рубахи.
Так напоследок мать одела сына.
Оглянешься: то всхлипывает Дрина.
Мы миновали ночью сербский пост.
Я с другом вышел на железный мост,
чуть вздрагивающий от стужи.
Молчала Босния в ночи без огонька
угрюмо и пустынно.
Но вспыхивала блестками река –
в жгуты свивала ужас Дрина.
Обломок контрабандного весла
и кровь, и трупы скрытно понесла
тугая, жадная пучина.
Воркует мрак, ползёт во все края.
Засмотришься, дыханье затая.
Поверить нелегко, что там – струя,
что есть ещё на свете Дрина.
А утром снова холод и туман.
Оглянешься: уходит, как в проран.
Но не уйдёт. Задумалась невинно.
Я поднимаю ракии стакан
за честный норов и за твой обман,
о, вила* горная, о, бешеная Дрина.
1993
____________________ *В сербской мифологии вила – покровительница гор и рек.
АЦА И ЛАЗА
Александр и Лазарь Протичи – близнецы. У нас про таких говорят ласково: близняшки.
С ними я познакомился на зеленом лужке возле их крестьянского дома. Это было в октябре, в тёплый послеполуденный час, на окраине сербского села Горняя Трнава. Село считается в Сербии одним из трёх самых населённых, в нём живёт больше трёх тысяч народу.
Старшие сёстры близнецов Валентина и Татьяна, их мать и отец, дед и бабушка зовут мальчишек по-домашнему: Аца и Лаза.
Черноглазые, черноволосые, круглолицые, братики стояли передо мной в одинаковых футболках. Я вручил им по московскому гостинцу. Чтобы не мешать разговору взрослых, дети почти тут же побежали в сторону дома. Я растерялся. Как же смогу теперь различать: кто именно Аца, а кто Лаза?
– Мы и сами их не всегда различаем, – утешила меня Гордана, молодая ещё бабушка. – Только мама-Елена различает, да сёстры.
Эту семью я знаю и люблю давно. Гостил в их доме две недели ещё в начале девяностых. Ещё «до санкций», как определяют здесь время, когда союзная Югославия стала стремительно распадаться на отдельные государства. Вместе с большинством сербов, трнавцы считают, что главный виновник того распада – не сами югославы, а Соединённые Штаты. Думаю, справедливо считают.
– Мы ждали, что навестишь нас,– говорит Гордана.– А мальчики слушали наши разговоры и спрашивали: «А ко е Юра? Шта значи негово име? Може, он юри? (бежит, мчится). Може, он иде на юриш? (идёт в атаку)».
Я рассмеялся. Когда-нибудь ребята узнают, что наше «Юрий» и греческое «Георгий», и сербское «Джордже» – одно и то же имя. И что за именем этим стоит и труд землепашца, и труд на поле брани.
Мы сели за стол при закате солнца, а потом, в сумерках и под первыми звёздами, вспоминали многое из пережитого трнавцами.
Я уже знал из писем о необычных обстоятельствах, при которых родились Аца и Лаза. Но мне захотелось услышать от их матери, как же это было. Худенькая тихая Елена, сама похожая на старшую сестру четверых своих детей, потупила глаза. И за неё рассказывали все остальные.
В те недели американцы и их европейские содельники, обнаглев от безнаказанности, бомбили сербские города. Взрывали мосты и железнодорожные пути, нефтехранилища, электростанции, разрушили телевизионный центр в Белграде, нацеливали свои ракеты на «военные объекты», но то и дело попадали в жилища беззащитного населения.
– В каждом почти селе, и у нас тоже, ежедневно по нескольку раз вопили сирены… Нашу сирену устроили при церкви… Елену отвезли за тридцать километров отсюда, в город Крагуевац. Помнишь, показывали тебе: на окраине Крагуевца стоит памятник на месте, где гитлеровцы в 41-м расстреляли семь тысяч мирных жителей, в том числе школьников с учителями… Там хороший родильный дом, вот почему отвезли в Крагуевац… Елена родила благополучно. А через три часа был жуткий взрыв. Близко от больницы находились воинские казармы, и американцы сбросили на них свои бомбы… Младенцы, конечно, не запомнили, а матери и врачи страшно были напуганы…На следующий день Драган поехал туда из Трнавы и забрал домой свою Елену с мальчиками.
Во время этого рассказа Елена раз и другой поглядывала на меня каким-то острым испытующим взглядом. И мне стало от этого её взгляда не по себе. Будто не только наш тогдашний президент, который спьяну пообещал помочь Сербии, острастить американцев, а наутро напрочь забыл о своей хмельной храбрости, но и все мы у себя в России в те дни смалодушничали.
– Эй, мальчики! – позвал я близнецов, гомонивших на лужке под старой грушей. – И вы, Валя, Таня, идите-ка сюда… Сейчас мы этим американцам кое-что покажем.
При электрическом свете я вытащил из бумажника две однодолларовые бумажки и спустился с кухонной веранды на траву.
– Кто у нас Аца?
Один из мальчиков ступил вперёд.
– На тебе доллар… И тебе, Лаза… Сейчас мы этим американцам, которые чуть не убили вас в больнице, кое-что покажем… Держите свои бумажки поближе.
Я чиркнул зажигалкой снизу. Бумажки нехотя разгорелись одна от другой. Девочки засмеялись первыми, а за ними и братья. Кто-то из взрослых успел сфотографировать этот наш маленький акт отмщения. Мальчики брезгливо побросали дотлевающие огрызки купюр в траву.
На следующее утро, когда Таня повела Александра и Лазаря в их первый класс, у неё в пятом писали сочинение. Вот что написала Татьяна Протич:
«Вчера у нас в доме был гость из Москвы Юра. Он дал моим братьям по доллару и сказал: «Американцы чуть не убили вас. Давайте запалим эти доллары». И они втроём запалили. Нам всем было весело».
Учительница, просмотрев её сочинение, засмеялась и зачитала вслух всему классу. Дети тоже смеялись и аплодировали.
2006
ИВАНА, СТЕВО И КОСОВСКИЕ ДЕТИ
Её зовут Ивана, с ударением на «и». Ивана Жигон. Это имя сегодня знают все сербы. Ивана Жигон – знаменитая актриса, дочь известного актёра Стево Жигона.
Несколько лет назад сербский драматический театр привозил в Москву свой спектакль по пьесе Чехова «Чайка», и в нём Ивана играла Нину Заречную. Со сцены Малого театра зазвучала тогда, – кажется, впервые в его истории, – сербская речь.
Впрочем, Ивана почти свободно изъясняется и по-русски. Это знание не раз пригождалось ей в Москве. Потому что в последние годы она приезжала к нам ещё дважды – и как актриса, и как председатель Общества Сербско-Русской дружбы. Ивана страстно желает, чтобы в России больше узнали о трагедии, пережитой сербами в пору распада союзной Югославии, о насильственном вытеснении сербского коренного населения с земель Книна, Боснии, Косова и Метохии, об уничтоженных там многих-многих десятках православных церквей. Обо всём этом она вместе с актёрами своего театра, вместе с мальчиками и девочками из косовских сёл поведала с подмостков московских театров, перемежая стихи и песни знаменитых сербских поэтов русскими переводами. Как мог, я помогал Иване в подготовке тех выступлений.
И вот, оказавшись в Белграде, звоню по её домашнему телефону. Голос у неё, как всегда, мягкий, тёплый, будто песню негромко напевает. Но немного усталый голос.
– Как себя чувствуешь, Ивана?
– А ты знаешь, какое тут у нас в доме событие? У меня же ребёнок родился! Сы-ын!.. Спасибо… Как назвали? Сте-во. Как моего отца… Ты можешь к нам приехать? Постарайся завтра… Потому что в конце недели мне нужно в Париж лететь. На терапию.
В назначенный час я был у них в доме. Григорий, муж Иваны, попросил подождать в большой комнате несколько минут, потому что «Ивана храни бебу». «Храни» – значит кормит.
Когда она вынесла напогляд своего трёхмесячного Стеву, Стефана или, как мы бы сказали, Стёпу, я не узнал черновласую красавицу актрису. Передо мной стояла мать, чуть бледный сосуд неиссякаемой ласки.
– Видишь, он уже держит головку… Он уже улыбается. Он у нас такой тихий и добрый мальчик… Всегда даёт маме выспаться… Правда же, Стево? Ты улыбаешься маме. Значит, правда.
– У него, кажется, синие глаза?
– Да, тёмно-синие. Как у деда. Знаешь, как всё произошло? Я была у врача, и он сказал, что я беременна. И на вопрос, можно ли родить, ответил: «Затрудняюсь вам говорить «да». У вас ведь была онкологическая операция… Посоветуйтесь дома»… Я опасалась, что отец станет против. А на следующий день отец умер. И я решила, что если рожу и будет мальчик, назову его Стево… Правда же, Стево, у тебя такое хорошее имя? Что, улыбаешься?.. Сейчас будем купать тебя. Ты же так любишь по вечерам купаться.
Мне было дозволено поглядеть и на купание. Я ведь тоже, когда сыновья были маленькими, обожал участвовать в их купании, подливать тёплую воду, заворачивать в простынки.
– Ивана, когда Григорий подвозил меня к вашему дому на машине, он включил диск, где ты поёшь для сына новую колыбельную, на слова святителя Николы Велимировича.
– Мне кажется, – сказала Ивана, – немного монотонно получилось.
– Вовсе не монотонно. Она получилась очень успокаивающей, умиротворяющей. Там Богородица названа Тишиной, священной Тишиной. Прекрасная песня. Ты ещё будешь петь её со сцены. Со своим ансамблем косовских детей.
Потом, когда мальчик затих в кроватке, Ивана показала мне альбом с рисунками косовских детей, изданный её Обществом. Карандашами, красками, авторучками маленькие художники изображают непереносимую беду своего детства: пылающие церкви, гирлянды колючей проволоки, танки с надписью «КФОР», злобные лица погромщиков, автоматные очереди… И снова огонь, снова руины.
Откуда столько силы в тебе, Ивана, думал я, чтобы собрать всю эту детскую боль и самой не сгореть? Откуда ты черпаешь силы, когда на проводах Слободана Милошевича вздымаешь свой горький голос над громадной площадью, переполненной людьми? Ты в эти минуты – сербская Жанна Д Арк! Ты – пророчица, берущая на себя право говорить от имени самой Сербии. И тебя слушают с громко стучащими сердцами. Тебе верят. Тебя любят… Пусть помогает тебе Бог! Пусть хранит тебя. Пусть кормит тебя, как свою бебу, как своё дитя, отвагой.
2006
ДЖУРА
Каждый раз, как выдастся свободное время, – час, а лучше два, – я спешу от своей белградской гостиницы на улице Краля Петра в сторону Калемегдана. Всего пять минут ходу, и уже взбираешься на холм.
Что такое Калемегдан? Это парк, выросший на остовах древней белградской крепости, на мысу, похоже, вулканического происхождения, что венчает собой впадение Савы в Дунай.
Под старыми дубами, платанами, клёнами, соснами тут по утрам и вечерам много мамаш с детьми, то и дело слышишь материнское ласковое предупреждение, обращенное к малышу, который слишком разбежался на слабых ещё ножках, или к первоклашке, что хочет вскарабкаться на пятнистую танкетку времён первой мировой войны:
– Полако… полако.
Это значит: тихонько, полегче, не спеши. Ещё можно услышать: пази! Будь внимателен… осторожно. Но всё-таки чаще звучит негромкое, похожее на поглаживание по макушке: полако-полако.
– Наверное, поэтому дети у вас такие тихие, не орут, не визжат, – сказал я своей белградской приятельнице. – У вас, по-моему, и матери никогда не кричат на малышей…
А про себя подумал: может, это после бомбардировок сербской столицы здесь привыкли жить, ходить и говорить именно так – полако?
– Ты бы слышал, как наши дети вели себя во дворах в недели бомбардировок! – рассмеялась приятельница. – Они научились подражать вою сирен. Иногда невозможно было отличить: настоящая сирена завыла или кто-то старается во всю глотку?
…Когда я приехал из Белграда в Нови-Сад, который также лежит на берегу Дуная, душа-человек, русский уроженец Сербии Алексей Борисович Арсеньев, работающий здесь не одно десятилетие инженером на нефте-химическом комбинате, перво-наперво повёл меня посмотреть на три моста через Дунай, что отстроены заново – взамен разрушенных бомбардировщиками НАТО. Досталось от налётчиков и предприятию, где он трудится. Даже нам два-три раза показали тогда по телевидению, с соблюдением гомеопатических дозировок, полыхающие и чадящие до седьмого неба резервуары.
От реки мы с Арсеньевым побрели в городской парк, и тут, по случаю выходного дня, малые дети в сопровождении родителей, как и на Калемегдане, встречались нам то и дело. И, как на Калемегдане, это были чаще всего какие-то негромкие, умиротворённые дети.
Издали поглядели на светлый силуэт памятника преподобному Сергию Радонежскому. Эту слегка уменьшенную копию своего всероссийски известного монумента, стоящего в подмосковном Радонеже, Вячеслав Клыков ещё в девяностые годы подарил жителям Нови-Сада. Мне показалось, что русскому святому и здесь хорошо, на ярко-зелёной луговине, вблизи старых пышных деревьев. Мы помолчали, вспоминая недавно скончавшегося художника.
Прошли ещё немного и на повороте дорожки увидели другой памятник.
– А это наш Джура Якшич, – пояснил Арсеньев. – Ты, наверное, его читал: прекрасный поэт и художник XIX века, романтик. А вот в жизни – горемыка, редко когда вылезал из нужды, боролся, как мог, с житейскими невзгодами. Частенько попивал. Он и тут, по-моему, изображён слегка в подпитии, в каком-то дон-кихотическом воспарении чувств.
Да, с поэзией Якшича я знаком, даже перевёл на русский стихотворение «Косово». А самые известные его картины знаю, правда, лишь по репродукциям (зато через час в здешнем музее Матицы Сербской увидим и три полотна-подлиника!). Но тут перед нами – не на постаменте, а чуть ли не на пеньке – сидел, совсем близко от травы, совсем другой человек. Не вдохновенный романтик, окружённый громами и зигзагами молний, не обуреваемый общественными и любовными страстями лирик, а усталый бродяга, завсегдатай какой-нибудь шумной кафаны. Вот, на обратном пути домой, присел прямо при дороге с намерением слегка передохнуть. Сдвинул на затылок свой старый соломенный капелюх и что-то, может быть, про себя бормочет… Кто из нас не встречал таких бедолаг, которые от выпитого становятся лишь благодушней? К этим блаженным во хмелю с удивительным доверием тянутся дети и собаки.
Так и бронзово-зелёный Джура Якшич был сейчас облеплен целой гурьбой детишек. Один карапуз, слегка поддерживаемый сзади отцом, восседал у Джуры на коленке. Другой малыш, пыхтя и наваливаясь пузом, взбирался на второе, свободное колено. Кто-то гладил безропотному Якшичу руку, дотягивался до плеча, а кто-то цапнул и за нос. По тому, что бронза на руках, на коленях и на носу поэта отливала сияющим золотом, было ясно, что дети постоянно толкутся тут в маленьких очередях с намерением по-свойски встретиться с добрым Джурой.
– Спасибо, Алёша, что привёл сюда, – сказал я Арсеньеву.– Может, второго такого памятника нет во всём свете…
Какое, однако, завидное обожание! Вот так Джура! Он не высится гордо над людьми, как трибун и оракул. Подходи к нему стар и млад, Джура каждому что-то хорошее пробормочет. Может, он, как и эти мамочки, негромко посоветует:
– Полако… полако.
2006
СРЕЧКО И СТАНКА
Приведу начало письма, которое 22 марта 1992 года отправил мне из Белграда Сречко Йованович, тогдашний глава издательского дома «Дечье новине». Свободно владеющий русским языком мой друг сам же, без помощи секретарши или кого-либо из своих редакторов, и отстучал это письмо без единой помарки – на своей пишущей машинке с русской клавиатурой:
«Дорогой наш Юра,
Станка тебе писала отдельно, больше всего о том, что делают трнавцы, как они там живут и чем занимаются в начале новой весны. О нас здесь, в Белграде, могу сказать, что мы в порядке, здоровы, много работаем и справляемся со всеми трудностями, которые, в основном, проистекают из «демократической» Европы. Благодаря нашему здоровому сельскому хозяйству, также как и другим ресурсам, и, разумеется, трудолюбию наших людей, здесь не ощущают никакого дефицита, хотя инфляция растет день ото дня.
В связи с твоим письмом от 4 февраля я могу сказать тебе следующее:
МИХАИЛ ПРИШВИН. Нас интересует этот писатель и публикование его произведений в Сербии. Я очень внимательно прочитал его книгу Я ВСТАЮ В ПРЕДРАССВЕТНЫЙ ЧАС, которую ты мне послал. Она совершенно проста, как природа, и глубока, как человеческий разум. Когда я получу от тебя вторую книгу КЛАДОВАЯ СОЛНЦА, мы более серьезно подготовим план издания его книг в нашей стране…»
К насыщенному и другими издательскими заботами письму я ещё вернусь, но сейчас хочется сразу же открыть и следующее, отосланное Йовановичем спустя два месяца, в мае того же года. В нём он не просто возвращается к разговору о Михаиле Пришвине, но придаёт теме куда больший смысловой объём.
«Спасибо тебе, что ты обратил мое внимание на этого писателя, которого я теперь снова открываю для себя. Раньше я читал лишь некоторые его рассказы, а сейчас не торопясь читал и внимательно перечитывал его размышления о природе и людях, об отношении человека к этой красоте, сотворенной Богом. Для него характерно полное отсутствие малейшей ненависти, которой переполнен современный мир. Мне думается, что М.Пришвин сегодня нужен всем нам, я его постоянно читаю, по нескольку страниц после телевизионных новостей и тех ужасов, что вижу на экране. Пришвин действует как лекарство на нашу душу. Мы во всяком случае опубликуем избранное из книги ЛЕСНОЙ ХОЗЯИН, и я предложу это перевести кому-нибудь из наших славистов. Больше всего мне хотелось бы сделать это самому, но, поверь, у меня столько забот, что я не могу выкроить время для дела, которое люблю больше всего».
А вот отрывки из его письма от 15 июля того же 1992 года: «Извини, что с большим запозданием отвечаю на твое письмо от 2 мая. Я поздно его и получил, а кроме того у меня было много чрезвычайных дел здесь, в фирме. Сейчас, после введения санкций против нашей страны мы должны были предпринять меры и начать работать по новым принципам. Нам остается лишь верить, что эти трудности не продлятся долго, и мы вернемся к нормальной деятельности».
Немного ниже, в том же письме: «Мы с большим интересом следим за событиями в России. От этого зависит и наше будущее. Все наши надежды связаны с новой, духовно возрождающейся славянской Россией, которая нас охранит от безумной пропаганды Запада, от уничтожения уникальных духовных ценностей человека. Я верю, что это время настанет, не в один прекрасный день, а постепенно, и русские люди вернутся к своим основам и неуничтожимым ценностям этого поистине великого народа и его великой истории.
Я всегда радуюсь, когда узнаю какую-нибудь обнадёживающую новость, когда прочитаю какой-нибудь новый текст или когда получу номер какого-нибудь патриотического издания».
И ещё – из того же письма: «Меня очень обрадовал протест русских писателей против введения санкций против Югославии. И тогда и сейчас мне было важнее знать, что думают о нас Распутин или Белов, чем весь западный мир. Это мне доказало, что мы правы и что русские писатели не изменили своим традициям патриотизма, славянства, чувству справедливости и сострадания. Русская литература должна существовать и в будущем. Мне не хотелось бы чтобы мои потомки жили в мире, если ее не будет. И сейчас я снова благодарю Бога за то, что в юности я выбрал русскую литературу и начал ее изучать, и что она всегда, помимо моих основных занятий, представляла собою мою параллельную, духовную жизнь».
* * *
По-сербски счастье – «среча». От этого смыслового гнезда – и сербские мужские имена, щедро или даже беззаботно, с какой-то озорной бесшабашностью обещающие человеку счастливую долю: Сретан, то есть счастливый, Сречко, то бишь счастливчик, чуть ли не баловень судьбы. Был ли мой друг Сречко Йованович счастливым или даже счастливчиком? Мы с ним в течение почти двадцати лет встречались, переписывались, дружили, обменивались то радостными, обнадёживающими, то совсем даже вредными для души вестями, касавшимися наших семей, наших близких, наших родственных народов, и я как-то постеснялся хоть раз спросить его, припомнив строку из стихотворения Ивана Бунина: «Был ли счастлив ты в жизни земной?» Наверное, и потому ещё было бы неловко озадачивать мне его, а ему меня подобным откровением, что оно показалось бы приглашением к какому-то взаимному велеречию.
Мы со Сречко Йовановичем познакомились в самом конце восьмидесятых. В стенах редакции «Литературной России» шла деловая встреча по случаю выставки в Москве югославского издательства «Дечье новине».  Гости говорили об уникальности единственного на всю федерацию предприятия, которое для поколения дошколяров и школьников умно и с любовью готовит в современнейшем производственном комплексе всё-всё-всё, начиная с учебников, тетрадок, ранцев, линеек, карандашей, пеналов и кончая читаемой нарасхват газетой детских новостей, серией журналов, целою библиотекой стихов, прозы, нотных сборников… Я заметил, что от сербов за столом больше выступают другие, а Йованович, которому, казалось бы, и карты в руки, по преимуществу помалкивает. Среднего роста, худощавый, лицом заметно бледней своих земляков, в немодных очках, – по внешности я бы принял его за сотрудника одной из многочисленных редакций или бухгалтера, а вовсе не за хозяина процветающей фирмы-монополиста.
Гости говорили об уникальности единственного на всю федерацию предприятия, которое для поколения дошколяров и школьников умно и с любовью готовит в современнейшем производственном комплексе всё-всё-всё, начиная с учебников, тетрадок, ранцев, линеек, карандашей, пеналов и кончая читаемой нарасхват газетой детских новостей, серией журналов, целою библиотекой стихов, прозы, нотных сборников… Я заметил, что от сербов за столом больше выступают другие, а Йованович, которому, казалось бы, и карты в руки, по преимуществу помалкивает. Среднего роста, худощавый, лицом заметно бледней своих земляков, в немодных очках, – по внешности я бы принял его за сотрудника одной из многочисленных редакций или бухгалтера, а вовсе не за хозяина процветающей фирмы-монополиста.
Хотя речь в кабинете заходила и о налаживании достойного литературного взаимодействия, но почти ничему из намеченного, увы, уже не суждено будет ни у них, ни у нас, ни завтра, ни послезавтра осуществиться.
Почему? Да потому что, ни у кого из нас, оказавшихся к тем дням в узком междувременье перестроечного благодушия, не заныло под сердцем от предчувствия, что две наши социалистические державы, будто безропотные блаженные слепцы при тихо исчезающих поводырях, приближаются к своим последним, подлинно роковым, срокам.
Но и тютчевская стихотворная формула «Счастлив, кто посетил сей мир в его минуты роковые» для случая с моим Сречко Йовановичем, а тем более для ситуации с СССР и СФРЮ показалась бы не менее велеречивой. Да, есть счастье на страшном пиру битвы, в зареве божественного возмездия. Но велика ли радость присутствовать безвольным наблюдателем при фейерверках всесветной афёры, вдыхать серное зловоние плутократических оргий?
 Моему другу выпало короткое счастье: начать свой просветительский труд с маленькой газетки для детишек, превратить её в марку великолепного производства и… и около десяти лет удерживать свой дом, своё уникальное детище – под натиском всё более беспощадных международных ужесточений.
Моему другу выпало короткое счастье: начать свой просветительский труд с маленькой газетки для детишек, превратить её в марку великолепного производства и… и около десяти лет удерживать свой дом, своё уникальное детище – под натиском всё более беспощадных международных ужесточений.
Напомню, летом 1992-го, «после введения санкций против нашей страны» Сречко ещё верит, «что эти трудности не продлятся долго». И потому пишет не об одном лишь намерении переводить на сербский и печатать рассказы и повести Михаила Пришвина. Его увлекает возможность познакомить детей Югославии и с шедеврами великолепного русского художника-графика ХХ века Юрия Алексеевича Васнецова, автора неповторимых книжных иллюстраций для самых маленьких: «Спасибо за книгу, которую ты мне послал. Я ее сразу же показал нашим редакторам и иллюстраторам. Они сейчас готовят некий широкий проект использования его иллюстраций. Я думаю, что этот проект охватит не только издание книг и книг-картинок, но мы также попытаемся использовать иллюстрации и в некоторых других видах продукции: детских играх, картинках для складывания, открытках, календарях и пр.».
Но «русскую тему» для своего издательства Сречко предполагал резко расширять и за счёт книг, которые самой русской аудиторией воспринимались тогда как что-то совершенно неожиданное, ломающее идеологические ограничения недавних времён. Его, в частности, увлекла возможность издать у себя биографический труд Михаила Вострышева, вышедший у нас в серии «Жизнь замечательных людей». «Книгу о св. Патриархе Тихоне, – пишет мне Йованович 19 мая 1992 года, – я показал представителям Сербской Православной Церкви. Господин Атанасие (Евтич), епископ Банатский) оказал нам честь и согласился написать предисловие для сербского издания. Вострышеву мы можем заплатить за использование его авторского права в югославских динарах во время презентации его книги в Белграде, или как-нибудь иначе. Следует его предупредить, что наши тиражи много меньше, чем в России (я думаю, что книга может выйти тиражом от 3-х до 4-х тыс. экземпляров). Книга может выйти в свет в начале будущего года».
В том же своём письме он заводит разговор ещё об одном авторе серии ЖЗЛ, Валерии Сергееве и о его книге об Андрее Рублёве, величайшем художнике Древней Руси. «Сейчас мы подождем и посмотрим, – уточняет осмотрительный и обязательный Сречко, – стоит ли нам обратиться к итальянской фирме, владеющей правами на публикацию его произведений. Как только мы что-нибудь решим и обратимся к этой фирме, я тебе тотчас же сообщу».
А напоследок он, озадаченный резким приростом внешних издательских хитросплетений, советует: «Я думаю, что было бы лучше всего нам в будущем связываться со всеми русскими авторами напрямую, без посредников, которые забирают себе большую часть авторских гонораров, и поэтому прошу тебя указать нам и на других русских писателей патриотической и православной ориентации, чтобы мы попробовали представить их нашим читателям».
Нет у меня сейчас никакого библиографического пособия, чтобы проследить по нему, какие из русских книг, намеченных тогда Йовановичем для перевода на сербский, успели выйти в 90-е годы. Последнее десятилетие века начиналось для него с надежд на возрождение православной Сербии и братской ей своим единоверием Черногории, на прибыток новых литературных имён и духовных свершений из любимой им России. Замыслы этого негромкого, но мудрого стратега в деле культурного строительства не были мечтательными. Они вытекали из реальных возможностей, а не миражей или небрежно намётанных схем. Они вполне могли и впредь осуществляться.
Но уже заклацали над его землёй челюсти международных санкций. «Мировое сообщество» начало с экономического и дипломатического, но затем перешло к жестокому военному вмешательству во внутреннюю жизнь древнего державостроительного народа Балкан. Кажется, ни одна натовская ракета не упала в Горнем Милановце на самое многоэтажное здание городка, в котором трудились люди «Дечьих новин». Но с крахом югославской федерации громадная фирма начала быстро рушиться структурно.
Сречко, заставший сполна эти «минуты роковые», вовсе не хотел мне в своих письмах исчислять их тоскливые подробности, хотя мы продолжали переписываться и в новом веке, когда его любимой «фирмы» уже не стало. Поневоле темы его писем сократились всего до двух: во-первых, он сообщал о продвижениях или задержках с изданием на сербском моих книг – романной дилогии «Унион»-«Полумир» и «Дмитрия Донского»; второй же неизменной темой почти с самых первых писем были наши взаимные обмены домашними новостями.
Началось всё с ЖЗЛ-овского «Донского», к которому Сречко прицелился, кажется, ещё при московском нашем знакомстве. Но уже в Белграде, в 1991-м, когда я в маленьком (изначальном) офисе «Дечьих новин» поделился с ним своим замыслом большого повествования о Сербии, правда, уже не в виде исторических очерков о занимающих моё воображение личностях Георгия Чёрного или поэта-владыки Петра Негоша, или генерала Драже Михайловича, а в жанре «свободного романа», он тут же, при всей внешней своей сдержанности, ответно увлёкся. И настолько, что вдруг предложил ехать с ним в Горний Милановац, в котором он обычно половину недели трудится на основном своём производстве. Ехать, чтобы и мне пожить там, для начала, несколько дней и взобраться, опять же для начала, на плато Равну Гору, где, как я уже читал и слышал, в 1941 году располагался штаб четнических повстанческих отрядов под командой Михайловича.
На счастье, у меня выкраивается время для нежданного «рывка судьбы», и почти тут же я соглашаюсь на щедрое приглашение. На счастье же, чуть не в тот самый день, ещё до выезда, Сречко знакомит меня со своей супругой Станкой, маленькой, хрупкой на вид, но необыкновенно энергичной женщиной редкостного, от природы, бескорыстия и дружелюбия.
Сам Сречко не курит и почти никогда капли вина в рот не берёт. Зато мы со Станкой, сидя за неспешной, как по-сербски принято, беседой, в их небольшой квартире, во всю «пушим», то есть, курим чудесную сербскую «Дрину» без фильтра, которой Станка меня от души угощает, как-то сразу, думаю, догадавшись, что я в Белграде сейчас на мели. Это «солдатский» табак, говорит она, но из хорошего домашнего «дувана», и он крепок, но не «лют», как армейский табак у французов, которые в сигареты крошат сигарные отходы. Сречко с удовольствием участвует в беседе ещё и как переводчик, поскольку я в разговорном сербском слаб, и Станка не всё «схватывает» по-русски. Сречко наливает нам и по рюмочке прозрачной сливовицы, и тут же выясняется, что этот чудесный напиток – изделие её родного отца, живущего в двухстах километрах отсюда, в Шумадии, в большом селе Горнья Трнава, совсем, кстати, недалеко от Тополы, где жил Караджордже, о котором, как она услышала от Сречко, я хотел бы написать…
Кажется, я чуть не поперхнулся в ту минуту. Не от слишком сильной затяжки «Дрины», не от большого глотка препеченицы, а от сорвавшихся с губ Станки двух имён: Караджордже, Топола… Знали бы она и Сречко, что я уже два или три раза просил в Клубе писателей на Французской, 7 – и на днях, и в прошлый свой приезд, – чтобы они помогли мне выбраться в Тополу, на родину великого сербского вождя, хотя бы на день, ну, пусть на полдня, туда и обратно.
– Караджордже… Георгий Чёрный… Так звал его Пушкин…– пробормотал я, не умея как-то иначе выразить сильнейшее смятение.
– Сречко, помоги сказать, – попросила Станка мужа. – Если вы, Юрий, захотите побывать в Тополе, это было бы совсем не трудно для нас. Вы даже можете пожить в сельском доме у моих родителей, сколько захотите, и оттуда вас отвезут в Тополу, к памятнику, и вы подниметесь на гору Опленац, в храм-мавзолей, где похоронен сам Караджордже и все его наследники из династии Караджорджевичей… Я выросла в Горньей Трнаве и знаю: там в окрестностях даже сохранилась церковь, в которой венчались Караджордже и его невеста. Но в ней уже давно не служат… Хотите сигарету?
Да, мне очень захотелось выкурить ещё одну сигарету. И выпить ещё рюмку сливовицы, чтобы хоть немного успокоиться. Мы чокнулись со Станкой. Я раскурил «Дрину» и в ту самую минуту мне стало вдруг ясно, как Божий день: я напишу, точно, напишу этот свой клубящийся в голове «свободный роман», в котором ещё непонятно каким образом, но обязательно окажутся и Георгий Чёрный, и генерал Михайлович, и Равна Гора, и Топола с Горньей Трнавой. Напишу его или сгорю от стыда перед Сречко и Станкой, которые сегодня сделали всё, чтобы мне его написать.
Видимо, меньше, чем через год после тех событий (поездка со Сречко в Горний Милановац и его Равногорские окрестности; а со Станкой – в Горнью Трнаву и Тополу) я имел основание сообщить из Москвы Йовановичу, что дописываю роман, и уже есть название (по имени белградской гостиницы, в которой временно обитают два его главных героя). Иначе бы в своём письме от 15 июля Сречко не мог спросить: «Меня интересует, как продвигается роман «Унион»? С нетерпением жду случая прочитать первые страницы»… И тут же авансом следует такая оценка ожидаемому им чтению, которой сам я, зная его обычную сдержанность, не вполне доверяю и по сей день: «… я уверен, что это будет лучшее из того, что написано о Сербии. Мне кажется, что ты очень хорошо почувствовал дух нашей страны и нашего народа и сможешь все это передать надлежащим образом в своей книге. Желаю тебе успеха в этом исключительно гуманном деле».
Кто из писательской братии не знает, как много значат в подхлёстывании и подбадривании наших усилий
звучащие наперёд оценки-преувеличения, особенно из уст людей, которых мы не можем подозревать ни в лести, ни в хорошо замаскированной иронии?
По выходу «Униона» в России и после того, как я переслал Йовановичу номера «Нашего современника» с текстом романа, он сразу занялся переговорами с переводчиком и настроил его на быстрый темп, на издание книги в ближайшие сроки. Внешне уравновешенный, неторопливый Сречко в работе предпочитал соответствовать бесперебойным ритмам большого многопрофильного производства. Но, как вскоре стало очевидно, ещё более сжатые сроки и ритмы уже навязывали Сербии те, кто своим сценарием экономической и политической блокады, а затем и самых безжалостных военных акций захотел навсегда подавить в сербах извечный порыв к сопротивлению.
В стране, где женщины зимой вынуждены рожать в неотапливаемых больницах, а городские старики – часами простаивать в очередях за молоком для тех же детишек, а тысячи семей – на тракторах переезжать куда глаза глядят из родных сёл, потому что их подчистую изгоняют под угрозой резерваций и концлагерей, – ну, разве в такой оскорбляемой стране, оставленной на позор всем миром, могла что-либо значить участь каких-то двух, трёх, ну, пусть десятка, другого запущенных в производство книг, в том числе переводы с русского? Я не раз писал Сречко и говорил, что мне даже неловко при сложившихся для его издательских трудов обременениях вообще надеяться на успех задуманного нами. Если и не получится ничего, разве наши с ним отношения из-за этого пострадают? Неужели авторское честолюбие для меня важней, чем дружба с ним, Станкой и их большой роднёй? Дружба, открывшая возможность увидеть и полюбить Сербию, – в её глубинном нетуристском облике, в сокровенной чистоте её народных характеров.
Нет, Сречко, не возражая мне вслух, продолжал свои заботы о совместно начатом. Когда под конец 90-х я снова оказался в Белграде и сказал ему, что ничего не знаю больше о прототипе сербского солдата из моего «Полумира», с которым встречался в Москве, где славному парнишке подлечивали пробитый осколком позвоночник, Сречко через минуту тихо отошёл к телефону и принялся названивать кому-то. Через четверть часа он вернулся к застолью и вручил мне адрес белградской Военно-Медицинской Академии:
– Ты можешь подъехать туда в отделение хирургии. Тебя пропустят. Твоего солдатика на днях привезли из его родного города на очередную профилактику. Думаю, ему будет приятно повстречаться с тобой снова…
Таковы истинные сербы.
Я счастлив свидетельствовать здесь о том, что мой друг Сречко Йованович оказался истинным сербом. Про таких в своём родном кругу негромко говорят: «серб от Косова». Истинный серб – не обязательно герой Косовской битвы или Солунского фронта. Он, может быть, и по воробью никогда в жизни не выстрелил из рогатки. Но в душе он всё равно ратник, воин, равняющийся на древних рыцарей Косова поля. Даже если он занят лишь тем, чтобы у детей были самые совершенные учебники по родной грамматике, самые красивые цветные карандаши в пенале, самые чисто стирающие с бумаги грязь ластики. А он, Сречко Йованович, сверх этого хотел ещё переводить на сербский любимые свои рассказы о природе Михаила Пришвина. Только на последнее заветное намерение времени ему так и не хватило.
Человек чести и долга, он понимал их не как абстрактные и отвлечённые «общечеловеческие ценности», а как непременные свойства христианского стоического поведения – своего православного стояния до конца.
Как-то, раз или два, я замечал ему в шутку: «Сречко, я, кажется, не фарисей, но ты у нас, похоже, большой грешник. Что ни выходной день, ты всё равно отправляешься на работу. И так, вижу, всю жизнь. Как же ты будешь оправдываться на том свете?» 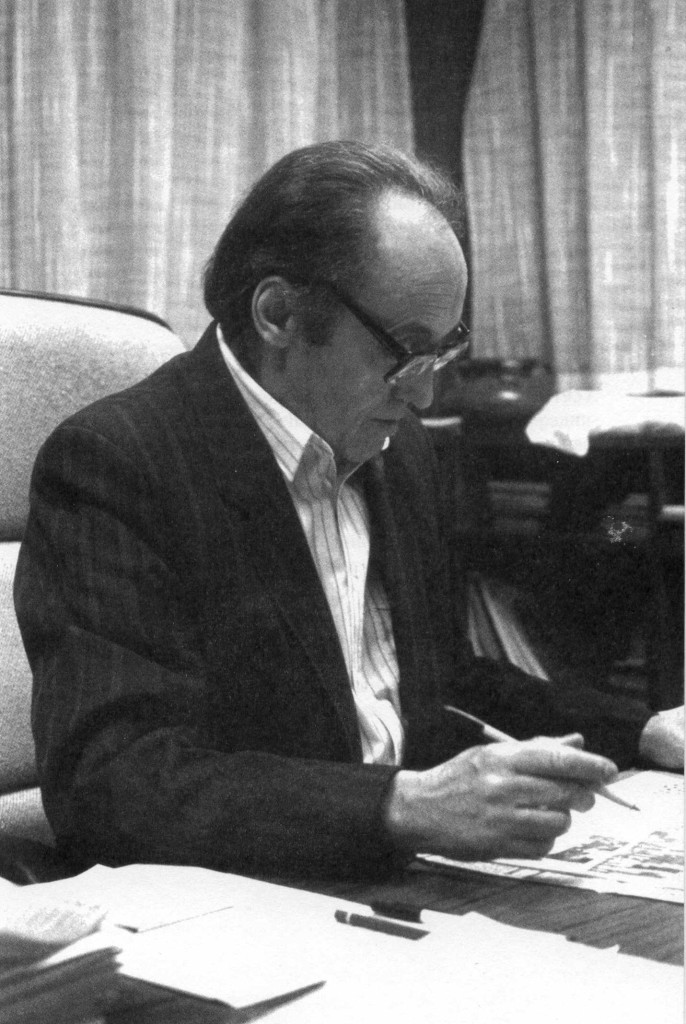 Он разводил руками, улыбался и отвечал что-то невнятное. Но однажды в письме всё же высказался: «Я, как и всегда, весь в работе и каждую субботу и воскресенье вспоминаю твои слова из письма, где ты пишешь, что я грешу, работая седьмой день в неделе. Поверь, я это делаю из внутренней потребности помочь своей фирме, а через это и своему народу, за интересы которого она борется. Поэтому я спокоен и не чувствую себя грешником».
Он разводил руками, улыбался и отвечал что-то невнятное. Но однажды в письме всё же высказался: «Я, как и всегда, весь в работе и каждую субботу и воскресенье вспоминаю твои слова из письма, где ты пишешь, что я грешу, работая седьмой день в неделе. Поверь, я это делаю из внутренней потребности помочь своей фирме, а через это и своему народу, за интересы которого она борется. Поэтому я спокоен и не чувствую себя грешником».
В этом же письме (24 февраля 1993 г.) он, по неукоснительно соблюдаемой привычке, касается и нашего «дела»: «Твой роман на рецензии, ДМИТРИЙ ДОНСКОЙ уже набран, и сейчас мы собираем средства для его публикации. Мне жаль, что сейчас я не могу сказать тебе точно, когда он выйдет (вопреки всем ожиданиям Сречко, он вышел лишь через 7 лет – Ю.Л.), но я договорился с Леной Бондаревой вместе уточнить дату, потому что и она хотела быть в Белграде, когда ты приедешь и когда мы организуем представление книги».
Обстановка более чем двадцатилетней давности, и разве не пора уже сказать, что упоминаемая здесь Йовановичем историк Елена Бондарева вместе со своим мужем Виктором Бондаревым, в начале 90-х работавшим в советском, а потом и в русском посольстве в Белграде, не только дружили со Сречко и Станкой, но и необыкновенно много сделали для того, чтобы писатели, журналисты, мыслители из России, такие как Эрнст Сафонов, Александр Проханов, а за ними Василий Белов, Валентин Распутин, Игорь Шафаревич, Эдуард Володин, Леонид Бородин, Юрий Юшкин, Сергей Лыкошин и другие имели возможность приезжать в Сербию, непосредственно знакомиться с её лучшими людьми – от национальных вождей до солдат в боевых патрулях…
* * *
Жалею теперь, что в нашей переписке с Йовановичами 90-х годов писем от них сохранилось гораздо больше, чем моих к ним. Значит, торопился, забывая делать для себя машинописную копию. Или же, не придавая особого значения
иным из «деловых» своих депешек. Но с началом нового столетия стал более внимателен и к себе как участнику немалой уже по объёму переписки. Ну, как было не сохранить это вот поздравление, отправленное в Белград 16 января 2007 года?
«Дорогие друзья Станка и Сречко!
Вчера утром разговаривал по телефону с Еленой Бондаревой, и мы с ней порадовались полученной от Сречко вести о новом прибавлении в Вашей семье – рождении внучки Стефании. Снова и снова Вас поздравляю! Сречко в который уже раз подтверждает смысл своего имени. Это же настоящее счастье – иметь такое обильное продолжение своего рода на земле. Тем более после стольких утрат недавнего времени»…
Но вот в ноябре 2008 года пришло по электронной почте письмо из Белграда. Писал Срето Танасич, известный сербский учёный-лексикограф, переводчик двух моих романов. Мы и накануне переписывались с ним чаще обычного, – от него я скорей всего узнавал о тяжёлой болезни Йовановича. А тут – самая краткая весть: нет больше нашего друга Сречко. В тот же час я ответил Танасичу и попросил, по возможности, донести до вдовицы мои слова:
«Дорогая, милая СТАНКА!
Прими сердечное сострадание твоему горю. Большую утрату понесла вся Ваша дружная семья, дети, внуки, многочисленные родственники. Всей душой я в эти часы и дни с Вами. Сегодня утром ходил в церковь и поставил поминальную свечу за моего друга Сречко.
Ты, Станка, свидетельница того, как много своей души он посвятил и мне, как из года в год помогал лучше узнать Сербию, её славную и трудную историю. Встреча с ним, с Вашей семьёй – одно из самых ярких событий в моей жизни. Без преувеличения могу сказать, что именно Сречко и ты открыли для меня Сербию, её красоту, её великую духовную силу.
Помнишь, в последний раз, когда я был в Белграде, мы втроём ходили на Новое гробле. Перед глазами стоит этот тихий тёплый осенний вечер. Я не знаю, где будет лежать прах Сречко, но если Бог даст когда-нибудь ещё приехать в Сербию, я обязательно приду поклониться земле, где он лежит. Я счастлив, что дружил с ним, что был обласкан его вниманием, его удивительной добротой. И в ушах у меня до сих пор звучит его тихий, усталый, но удивительно добрый голос, услышанный по телефону несколько недель тому назад.
Станка, я плачу вместе с тобой.
Вечная память твоему и нашему Сречко!
25 ноября 2008 г.
Москва».
Проводив своего Сречко, Станка, как и принято в Сербии, надела на целый год вдовье, чёрное. Но не замкнулась ото всех, от мира, заботами и бедами которого он жил. Станка собрала и выпустила в свет книжку памяти о нём, украсив её страницы многими фотографиями, которых сам он никому из гостей, по крайней мере, при мне, не показывал, не желая сосредоточивать их внимание на своей персоне.
Но потом ушла и маленькая безунывая Станка. Остаётся теперь, вспоминая этих двух чудесных моих друзей, утешаться перелистыванием его подробных, дышащих глубинным спокойствием писем и её скромных, коротеньких, от руки, приписочек – с неизменными приветами-поздравлениями моим внучкам Саше и Кате. Или читать по-сербски его послесловия к двухтомной дилогии, которой сам он и придал общее для «Униона» и «Полумира» заглавие: СРПСКА ПРИЧА РУСКА БАJКА
* * *
«У нас со Станкой всё хорошо. Станка сейчас в коротком отпуске, и я ей завидую, что она может выспаться утром, когда я ухожу на работу. И у трнавцев все идет нормально. Они часто приезжают сюда, в Белград, и продают на рынке свою знаменитую ракию, чей аромат ощущается в твоём романе УНИОН»…
«У нас нет больших перемен. Здесь, в конце февраля, что не так часто случается, выпало много снегу. Кругом все бело, чисто и очень красиво, как будто это и не на нашей планете, переполненной ненавистью и непониманием».
2015






